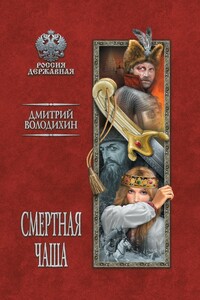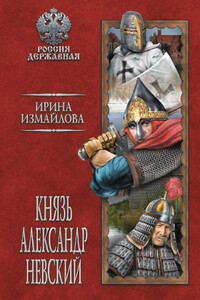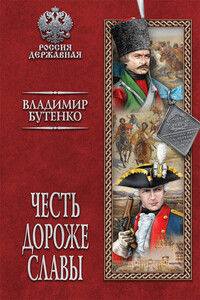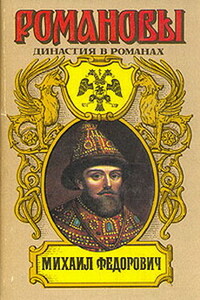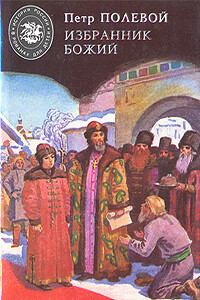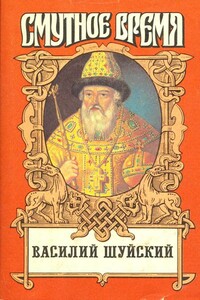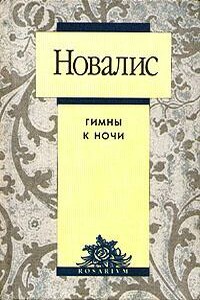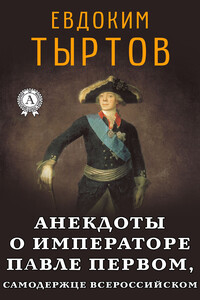Яренск и теперь невелик город, и теперь в нем немного более тысячи жителей, а двести лет тому назад, по описанию самого Скрябина, это был «городишко самый убогий, – всего и с церковниками, и с подьячими, и с приставами тридцать дворишек». С величайшим трудом отыскалось помещение для несчастных князей с семействами: им отвели две нежилых, черных (курных) избы, двор умершего протопопа. В одной избе помещались князья с женами и детьми, в другой – их люди. При этой тесноте постоянно ощущался недостаток в запасах для насущного пропитания и в дровах, которые пристав чуть не с боем брал у яренцев, потому что они не соглашались давать ему дров без указу, а в наказе, данном ему, этот пункт не был предусмотрен. Житье князей было такое, что князь Василий не раз вспоминал о тех горицких мужиках, у которых отнята была последняя одежонка и деньжонки; но по крайней мере не отнята была теплая изба… «Им, чай, получше нашего жилось», – думал князь, оглядывая свое горемычное жилье.
Но все же, припоминая свое пребывание в Тотьме, где почти пять недель непрерывно пришлось провести у изголовья больной и беспомощной снохи, слушать ее стоны и вопли, видеть отчаяние сына, трепетавшего за жизнь жены, князь почти отдыхал в Яренске. Не мог он надивиться и на свою княгиню. Эта женщина, с детства воспитанная в роскоши, избалованная, изнеженная, привыкшая сладко есть и мягко спать, переносила все бедствия ссылки с таким мужеством и такою готовностью ко всяким напастям и бедствиям, что князь даже не мог понять, откуда бралась в ней эта замечательная сила духа. И это мужество было вовсе не похоже на ту напускную твердость и равнодушие, которые нередко высказывал князь, не желая унизиться и уронить своего достоинства перед Скрябиным и в то же время внутренне отчаиваясь, проклиная и ропща на судьбу… Нет! Это мужество исходило прямо из того безропотного покорства судьбе, к которому с детства приучала русскую женщину ее скромная и горькая доля – горькая даже и в раззолоченном боярском тереме, среди раболепной прислуги, среди забав и роскоши. Сознавая это, князь Василий, впервые сблизившийся со своею женою, впервые узнавший ее, начинал чувствовать и всю свою виновность перед нею, начинал ценить ее голубиную незлобивость, начинал понимать, насколько она выше его прекрасными качествами своего женского сердца. Нередко, окруженный ее заботами, он уже стеснялся ее услугами и хлопотами о его спокойствии.
После двух-трех недель житья в Яренске, в этих ужасных черных избах, в которых в былое время он не позволил бы поставить рабочей лошади, князь Василий настолько успел окрепнуть духом, что стал каждый воскресный и праздничный день ходить с князем Алексеем и приставом в церковь и находить большое наслаждение в богослужении, которое совершалось в жалкой церковке, едва вмещавшей в себя тридцать – сорок прихожан. Его умиляла эта несказанная бедность, которую он видел около себя в храме Божьем, – эти оловянные сосуды, эти крашеные облачения с нашитыми на них кумачными крестами, эти почерневшие и облупившиеся иконы, которыми еле теплились грошовые свечечки – усердный дар полудикаря-зырянина. Творец являлся ему Великим, Всемогущим, Всемилостивым и в этом убогом храме, и князь молился здесь спокойнее, теплее, усерднее, чем в обширных московских храмах, блиставших золотом, узоровьями и каменьями, залитых лучами солнца, игравшего на богатом облачении, полных благоухания и дивной гармонии стройных певческих хоров.
В то время, когда князь Василий только еще начинал понемногу оправляться в Яренске от постигших его тяжких невзгод, судьба готовила ему новые тяжелые удары.
В Москве о князе Василии не забывали его друзья и князь Борис, но не забывали и враги его. Розыск над сообщниками и единомышленниками Шакловитого все еще продолжался и приводил к новым открытиям. В «животах» казненного вора и изменника, тщательно разобранных и пересмотренных, была отыскана большая переписка, которую князь Василий вел с Федором Леонтьевичем во время двух Крымских походов.
В письмах князя Василия нашлись намеки, не совсем понятные, нашлись и целые строки, писанные крюками. Решено было в них потребовать объяснения у князя Василия. Мало того: пойман и привезен был в Москву Сильвестр Медведев и, подвергнутый пытке, сознался на допросе в своих сношениях с волхвами, которые, как оказалось, бывали и у царевны Софии, и у князя Василия. Являлся, следовательно, целый ряд новых обвинений против князя Василия, и, ввиду этих обвинений, особенное внимание Разыскного приказа обращено было на совершенно невинное письмо князя Алексея к отцу, писанное также во время одного из Крымских походов. В этом письме сын писал к отцу на условном языке о дворских делах вообще и выражался так: «Ветры у нас тихи; дай Бог и впредь так». И вот в расспросных речах приказано было дознаться подробно: «Что тем ветрам тишина, кто ему таким скрытным письмом писать приказывал, и для чего и почему он о тех ветрах дознавался, и каким гаданием и с которого и по которое число такие тихие ветры были, и что в тех ветрах каких причин было?»