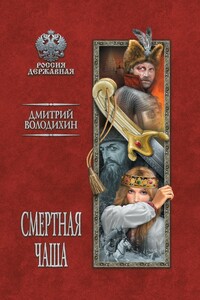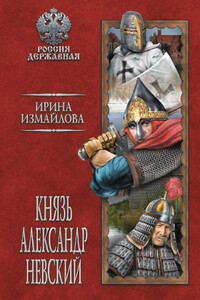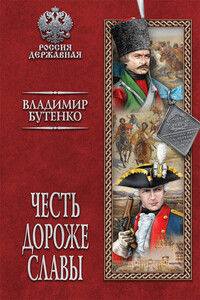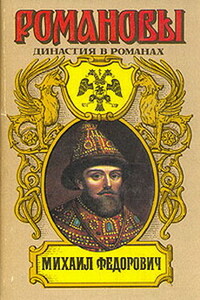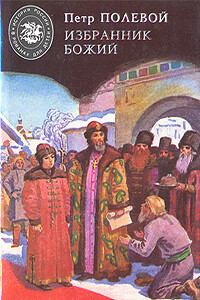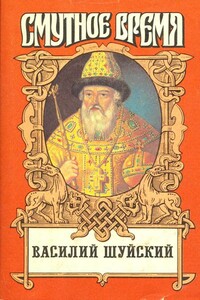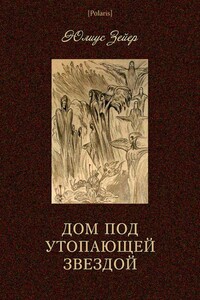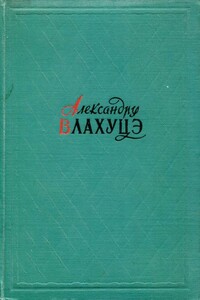А грядущее готовило новые удары… Скрябин, ожидавший со дня на день ответов на свои письма в Москву, медлил с отъездом из Вологды и прожил на подворье еще две недели. Между тем наступила глухая осень, со слякотью, с холодными резкими ветрами. И вдруг вместо ожидаемого разрешения выждать земного пути из Москвы был прислан строгий выговор Скрябину за остановку в пути и строгое приказание везти опальных князей, несмотря ни на что, к месту ссылки.
Приходилось ехать на Тотьму Сухоною, которая к осени обыкновенно мелеет, так что плавание по ней становится очень затруднительным. Пришлось всю рухлядь князей и их экипажи и телеги нагрузить на небольшие суда и бечевою тащить их по реке, перегружать на перекатах и беспрестанно стаскивать суда с бесчисленных мелей. На беду вдруг завернули легкие морозцы, реку затянуло тонким ледком, а потом повалил снег, – суда пришлось бросить и ждать возможности ехать рекою в повозках, поставленных на зимний ход. Местные жители остерегали Скрябина: «Выжди, – говорили они, – дороги еще нет, лед тонок, потому снеги упали великие, а под снегом мерзнет лед мало и ваших тяжелых возов не подымет». Но Скрябин спешил, опасаясь новою выговора. 18 октября выехал он из села Турантьева, прокладывая дорогу по таким местам, где никто еще до него не езжал. Подвигались вперед всего по пять-шесть верст в день, а через речки и ручьи, пересекавшие путь, приходилось брести мужчинам пешком, перетаскивая на плечах сани и возки, перенося детей и женщин на руках.
«Господи боже, – думал опять князь Василий, совершенно изможденный трудным путем, – хоть бы до какого-нибудь крова поскорее добраться!»
– А вот и Тотьма! – сказал, оборачиваясь к нему, ямщик, указывая вдаль и как бы отвечая на его мысль. – Тутотка не больше трех верст будет. Как за реку Сухону переедем да на горку вздымемся – тут и есть!
Вот уже и на реку спустились, и не больше версты до городка осталось, и приветливо в тумане замерцали огоньки в окнах домов, и воображению путников стали в самом привлекательном виде представляться и теплый угол, и горшок горячих щей… Но что это? Сзади раздается пронзительный, раздирающий душу крик! Десяток голосов разом зовут на помощь!
– Батюшки, тонем! Помогите! Спасите!
Все выскакивают из саней, бросаются на крики и с ужасом видят, что оба возка княгинь и повозка с женской прислугой медленно опускаются в широкую полынью… и вода, выступившая из-под тонкого слоя льда, заливает несчастных, с ужасом видящих перед собою неминуемую, неизбежную гибель…
Вопль ужаса вырывается у всех разом, и на мгновение всеми овладевает только одна мысль, одно побуждение: спасти погибающего ближнего. Все – князья и слуги, стрельцы и сам Скрябин – устремляются на помощь, не помня о себе, бросаются к полынье, лезут в воду, забывая о личной опасности!
По счастью, оказывается, что возки обломились не на глубоком месте и всех женщин и детей, обезумевших от страха, удалось вытащить из воды и кое-как привести в чувство.
И вот, когда после этого смертного страха продрогнувшие, иззябшие, мокрые князья пришли в отведенную им дрянную избенку с закоптелыми стенами и спертым, затхлым, смрадным воздухом, когда они внесли в эту избу своих полузамерзших жен и детей, еще не оправившихся от перепуга, князь Василий впервые убедился в том, что у него есть в сердце привязанности, не имеющие ничего общего ни с внешним блеском, ни с мирскою суетною славою, ни с богатством, ни с соблазнительною роскошью и удобствами жизни.
Проведя бессонную ночь над изголовьем жены и молодой снохи, метавшихся в бреду на жесткой лавке, князь Василий в первый раз после отъезда из Троицкого посада позабыл о себе, о своем прошлом и будущем, и не роптал, и не сокрушался, и не жаловался, поглощенный заботою о ближнем и кровном.
Княгиня Авдотья Ивановна поплатилась за испуг и жестокую простуду только легкою горячкою, но ее молодая невестка заболела жестоко, раньше времени разрешилась двумя девочками (из которых одна тотчас после родов и умерла) и пять недель сряду была на волосок от смерти. Едва только она начала немного оправляться, суровый пристав потребовал, чтобы князья собирались в дорогу, и двинулся на Сольвычегодск к Яренску. Каково было это путешествие, можно судить по тому письму, которое Скрябин, по прибытии князей на место ссылки, отправил к боярину Стрешневу. Заявляя своему начальнику и покровителю о том, что он прибыл «в Еренской городок Января в 6-м числе, совсем в целости», пристав при этом добавляет: «А езда, государь, моя была такая: лучше бы, государь, я болезнею какою лежал или в полону был, а нежели бы, государь, в таком мучении един день был». Можно судить по этому отзыву, каково было путешествие князей и княгинь с их малолетними и грудными детьми…