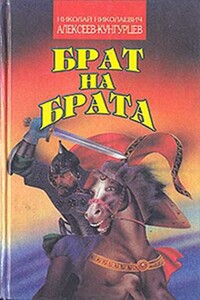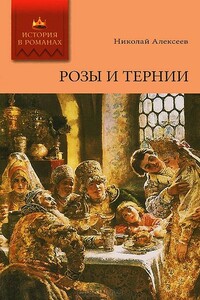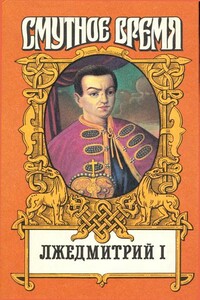Марк Данилович отрицательно покачал головой.
— Нет, друг добрый! На зелено вино плоха надежда: не зальет оно твоего горя, только пуще его подбавит.
— Так что же делать? — воскликнул Турбинин.
Кречет-Буйтуров выпрямился во весть рост.
— Терпеть! — промолвил он торжественно. — Терпеть! Али, думаешь, ты один страждешь? Али уж лютей твоего горя не бывает? Быть может, и у меня на душе не легче твоего. Что ж и мне в вине горе топить? Да и не легче твоего, не легче! И мне люба она, Танюша, больше всего на свете, как тебе Катя, и мое сердце, чай, не меньше твоего счастья просит… А терплю!.. Правда, нелегко терпеть… Иной раз, как нахлынет — так бы пошел и утопился… Пересилить себя надо, надеждой тешить — рано ль, поздно ль, придет счастье. И придет! Придет!
— Нет, уж где!
— А ты надейся, надейся крепко — придет!.. И должно прийти! Быть может, на миг один, быть может, и не такое, как ты ждешь, быть может, ты ищешь его здесь, а оно придет с другой стороны, но придет, придет. Верь, друже!
— Да коли не верится?
— А ты осиль себя, заставь верить. Верь, верь!
— Сладко верить! Быть может, стало быть, еще не всему конец, о Господи!
— Ага! Тоска-то меньше стала!
— Как будто свет слабый сквозь тьму проблеснул.
— Проблеснет и ярче, только верь да надейся!
— Оставался бы лучше ночевать, Дмитрий Иванович, что за радость ночью в пути быть!
— Нет, беспременно надо в Москву, дела такие, — ответил Степану Степановичу Кириак-Лупп, не совсем твердыми шагами направляясь к двери.
— Я к тому, что шалят здесь ноне очень. Вон намедни усадьбу Герасима Стратилатовича сожгли и пограбили… Ты, чай, знаешь Герсима-то Стратилатовича?
— Ну, еще бы! Так пограбили его? Жаль! А только он и трусишка большой, потому, может, этакое и приключилось: другой такого бы гону задал ворам, что они и своих не узнали б! Да коснись до меня — я б им задал! — говорил, остановись перед дверью и приняв воинственную позу, Дмитрий Иванович.
Кречет-Буйтуров ухмылялся в усы.
— Ты, — хват, что и говорить.
— Да уж, не хвалясь скажу, никогда трусом не был! — сказал Кириак-Лупп и вдруг круто повернул разговор: — что невестушка-то оправилась ли?
— Ничего теперь, слава Богу!
— Чай, ждет не дождется свадебки-то? Хе-хе-хе! Эх, взглянуть бы на нее одним глазком!
— Не водится этого, знаешь, Дмитрий Иванович.
— Все это пустое, что не водится. Теперь я ведь, почитай, что и не чужак для нее — без мала муж ейный.
— То-то и оно, что без мала.
— Да я, ей-ей, одним глазком! Сделай милость!
— Разве уж дружества нашего ради?.. Эй, кликнуть Катьке, чтоб пришла сюда!
В ожидании прихода невесты Кириак-Лупп говорил без умолку.
— И как это я хорошо надумал съездить сюда. С утра меня сегодня скука брала. Так вот, ровно бес в ухо жужжит: «съезди да съезди!» Одначе, смекаю, что совестно — седмицы не прошло, как я был здесь.
— И не стыдно тебе?
— Да ведь, хоть и знаю, что ты — хозяин радушный, а только все ж, думается, коли не к разу попадешь, так ты и поморщишься.
— Вот выдумал!
— Чай, человек же ты, как и все? Ну, как про других, так и про тебя подумаешь. Думал я, думал, да и не стерпел — поехал!
— И хорошо сделал.
— И про что и говорю. И угостился я порядком, и побеседовал по-приятельски и на невестушку полюбуюсь… Чего лучше! А! Вот и моя красавица!
Катя стояла перед ним бледная, исхудалая, угрюмая. В ее взгляде, устремленном на жениха, выражалась злоба.
— Что же не кланяешься, дурища? — сурово заметил ей отец.
Она отвесила поклон и снова приняла прежнюю позу. Дмитрий Иванович разглядывал ее с плотоядной улыбкой.
— Да, с тела маленька спала, и лик малость побелел, а только ничего, все ж красоточка! Ай, да и женка же будет у меня! — сказал он и потрепал боярыню, которая с отвращением отшатнулась, по щеке.
— Стыдится, хе-хе! Погодь малость, скоро ко мне попривыкнешь!
— Ну, иди себе! — приказал Кате отец.
Боярышня вмиг убежала.
— Уж и прогнал? Ишь какой! Делать нечего — надо плестись мне, горемычному, — сказал Кириак-Лупп, выходя вместе с хозяином в сени.
— Знаешь что, Митрий Иваныч, пошлю-ка я с тобой хоть холопишку — все побезопасней, — промолвил Степан Степанович, когда гость взбирался на седло.