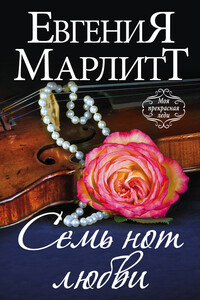— Ты опять бродила по этой жуткой жаре и нанесла сюда негодной травы для забавы мужиков? — спросила графиня гневно и строго. — Когда же настанет конец этому ребячеству?
Она пожала плечами и бросила презрительный взгляд на стол. На нем лежала целая кипа папиросной бумаги рядом с прессом, из-под которого молодая девушка только что вынула несколько орхидей, чтобы уложить их в гербарий. Ее сиятельство графиня Трахенберг, урожденная княжна Лютовиская, знала очень хорошо, что старшая дочь ее, графиня Ульрика, занималась изготовлением искусственных цветов, которые посылались в Берлин, где весьма неплохо оплачивались; в этом деле ей помогала старая кормилица, и никто не подозревал, что голову искусной художницы украшала графская корона… Графине также было известно и то, что ее единственный сын и наследник замка Трахенберг с помощью своей сестры Юлианы отлично высушивал презренную, непотребную траву и в виде комплекта образцов чужеземной флоры продавал в Россию от чужого имени. Но урожденная княжна Лютовиская не должна была этого знать — и горе той руке, которую она застала бы за неприличной работой, или языку, который решился бы намекнуть на источники увеличения доходов семьи: это было просто забавой, на которую следовало смотреть сквозь пальцы, — и более ничего!
Проходя мимо, графиня подхватила волосы дочери и взвесила в руке их «ужасную тяжесть»; что-то похожее на чувство материнской гордости промелькнуло на ее еще прекрасном, с резкими чертами лице.
— Рауль должен бы это видеть, — сказала она. — Глупенькая, ты скрыла от него свое лучшее украшение! Я никогда не прощу тебе тех огромных бархатных бантов, которые ты придумала надеть на голову в первый визит его к нам… С такими волосами…
— Да ведь они рыжие, мама.
— Вздор! Вот эти рыжие, — сказала она, указывая на другую свою дочь, Ульрику. — Боже меня избави от двух рыжих голов! За что такое жестокое наказание?
Графиня Ульрика, вынувшая между тем из кармана какое-то вышивание, сидела, как статуя, и слушала беспощадные слова эти с невозмутимым спокойствием. Ни один мускул на ее лице не дрогнул: ведь ее красавица мать была права. Сестра подбежала к ней и, ласкаясь, положила голову ей на грудь, а потом принялась с нежностью целовать ее рыжие волосы.
— Сентиментальности без конца! — раздраженно проворчала графиня Трахенберг и положила на стол принесенный с собой большой пакет.
Взяв со стола ножницы, она торопливо вскрыла его и вынула оттуда футляр с ожерельем и белую шелковую материю, затканную серебряными арабесками.
С необыкновенною жадностью набросилась она на футляр, открыла его и, держа в вытянутой руке, устремила испытующий взгляд на подарок; при этом она едва могла совладать с охватившим ее чувством неприятного удивления и зависти.
— Посмотрите-ка! Моя скромная овечка предстанет пред алтарем более прекрасной, нежели знаменитая княжна Лютовиская, — проговорила она медленно, подчеркивая каждое слово и играя в лучах солнца ожерельем из бриллиантов и крупных изумрудов. — Да, конечно, для Майнау это возможно! А ваш отец был бедняк, я должна была бы еще тогда это заметить.
Ульрика вскочила, как будто мать ударила ее по лицу; в некрасивых, но выразительных, опушенных длинными ресницами голубых глазах ее сверкнула искра негодования; но, овладев собой, она села и, продергивая зеленую нить в шитье, сказала серьезным, монотонным голосом:
— Трахенберги обладали тогда большим состоянием, оценивавшимся в полмиллиона. Они, кажется, всегда отличались бережливостью и умением жить, и мой дорогой отец оставался верен этим добродетелям до сорокового года своей жизни, когда он женился… Я вместе с чиновниками пыталась пролить свет на этот хаос, а поэтому знаю, что отец обеднел только вследствие своей безграничной уступчивости.
— Бессовестная! — выкрикнула графиня, и приподнятая рука ее невольно сжалась в кулак, но в ту же минуту опустилась в презрительном жесте. — Ты всегда защищаешь твоих Трахенбергов; у меня с тобой ничего нет общего, кроме того, что я дала тебе жизнь. Ты в этом еще больше убедишься, когда посмотришь на всех своих предков, собранных в портретной галерее, где рыжеволосые обезьяны покрывают стены сверху донизу! Недаром я плакала и проклинала судьбу, когда тридцать лет тому назад положили мне на колени новорожденное чудовище, живую Трахенберг!