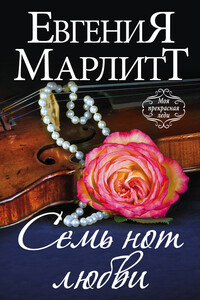Лиана, поддев лежавшим на столе ножом для разрезания бумаги остаток крышки, вынула из ящика стопку бумаги с высушенными растениями и отложила ее в сторону, а потом достала какой-то плоский предмет, завернутый в голландскую бумагу, по-видимому картину. После этого она перевернула ящик вверх дном и постучала по дну пальцем.
— Кроме наследства моей бабушки в ящике нет ничего ценного, — проговорила она сурово и гордо посмотрела на старика, впалые щеки которого покрылись легким румянцем стыда: наказание было вполне заслужено им.
— Боже милостивый, к чему это доказательство? — воскликнул он. — Не должен ли я извиниться, когда у меня и в мыслях не было оскорбить вас! Мог ли я сомневаться в вашей порядочности? Я всегда верю вам на слово, верю во всем, даже если бы вы сейчас сказали мне, что отсылаете домой фермуар, чтобы его повесили на шею маменькиной собачке.
Его голос звучал слишком дерзко, а злобная насмешка, искривившая его губы, заставила вспыхнуть молодую женщину. Она уже намеревалась повернуться к гофмаршалу спиной и выйти из комнаты, но тут увидела, что придворный священник, до сих пор хранивший молчание, вдруг сделал резкое движение и так посмотрел на гофмаршала, точно хотел пронзить его своим огненным взором… Не собирался ли он защитить ее, полагая, что она переживает одну из тех «тягостных минут», когда он желал прийти ей на помощь? Нет, никогда не протянет она даже кончик пальца этому священнику, который, пользуясь своей властью, накладывал железные оковы на все человеческие души, какие ему только попадались.
— Такие глупости мне и в голову не приходят, — сказала она, быстро овладев собою, чтобы не позволить священнику вмешаться в их разговор. — Я дочь Трахенбергов, а они всегда слишком серьезно относились к жизни, чтобы поступать так по-детски наивно… К чему мне скрывать это? Весь свет знает, что мы обеднели; я посылаю розетку матери, чтобы дать ей возможность съездить на воды.
— Э, что вы такое говорите? — Гофмаршал засмеялся. — Или я должен осуждать вас за то, что вы чрезмерно скупы? Вы ведь получаете до трех тысяч талеров «на булавки»!
— Я думаю, исключительно от меня зависит, как распоряжаться этими деньгами, — прервала она его.
— Конечно, я не имею права спрашивать, обращаете ли вы их в банковые билеты или обшиваете ими ваши кисейные платья… Впрочем, можете ли вы иметь понятие о стоимости драгоценных камней? — Тут он презрительно ткнул пальцем в лежавший на столе футляр. — Вещь эта не стоит и восьмидесяти талеров… О боги! Восемьдесят талеров для поездки на воды графине Трахенберг!
— Эта вещь уже была оценена, — возразила она, стараясь держать себя в руках. — Я знаю, что вырученных за нее денег недостаточно. Потому я…
Лиана, не договорив, умолкла, и яркая краска разлилась по ее нежному лицу. Она увлеклась и сказала больше, чем позволяло благоразумие.
— Ну-с? — Гофмаршал, нагнувшись вперед и злобно улыбаясь, устремил на нее взгляд.
— Я прибавила еще вещь, которую Ульрика продаст не менее как за сорок талеров, — закончила она с глубоким вздохом и уже не таким твердым голосом, как прежде.
— Да откуда же у вас такие необыкновенные ресурсы?.. Уж не этот ли предмет? — указал он на сверток, завернутый в голландскую бумагу, на который она нечаянно положила руку. — Если не ошибаюсь, это картина?
— Да.
— И это ваше собственное произведение?
— Да, я сама рисовала ее.
Она прижала руки к груди, точно ей недоставало воздуха. В ту же секунду перед ее мысленным взором возник Рюдисдорфский замок и мать, швырнувшая сочинение Магнуса на каменные ступени террасы.
— И эту картину вы хотите продать?
— Я уже говорила вам об этом.
Она не поднимала глаз, зная, что встретит торжествующий взгляд, — так медленно и со значением был поставлен ей этот вопрос. Это была возмутительная игра кошки с мышью.
— У вас, верно, есть какой-нибудь богатый друг, меценат, посещающий Рюдисдорф и считающий своей обязанностью щедро оплачивать подобные произведения искусства?
Наконец она справилась с ужасным волнением; она стала совершенно спокойной, и это помогло ей быстро принять решение.