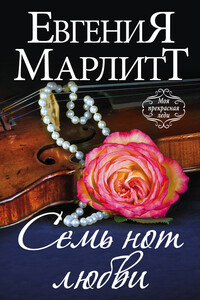— Я на самом деле желал бы, чтобы дядя Гизберт мог вернуться и посмотреть туда, — сказал он и подошел к злополучному окну. Теперь он говорил очень спокойно. — Ровно тринадцать лет лежит он там под красным мрамором; между тем его любимые индийские растения разрослись под северным небом так, как он, вероятно, не ожидал. Они часто бывают причиной споров в Шенверте. С наступлением сурового времени года все эти чудеса южной флоры следует укрывать под гигантскими стеклянными сооружениями, животные тоже требуют особого ухода, а это стоит больших денег. Дядя ежегодно делает попытки стереть с лица земли дорогую затею, а я решительно не позволяю повредить даже один лист.
— А что до человеческой жизни, которую немецкий дворянин завез под северное небо? — спросила она, и ее мелодичный голос прозвучал резко.
Он снова быстро подошел к ней.
— Ты намекаешь на женщину в индийском домике? — спросил он. — Вот, полюбуйся на мальчика! — Тут он указал на Габриеля, на спине которого сидел Лео; худенькая фигурка «лошади» то и дело дергалась под ударами хлыста. — Это типичный представитель индийской расы, привезенный из-за моря как неоценимое сокровище: трусливый, по-собачьи преданный и поддающийся на малейшие соблазны… Этот мальчик противен мне. Я скорее простил бы ему пару синяков на спине моего сына, нежели это скотское раболепие человека, созданного по образу Божию… Лео, хватит уже! — крикнул он громко в отворенную дверь и сердито нахмурил брови.
Габриель только что взошел на верхнюю ступеньку. Он очень утомился и вспотел под беспокойным седоком, которого с трудом нес на себе по лестнице; но, несмотря на это, его лицо оставалось по-прежнему бледным, хотя прекрасные линии его овала не изменились, как у здорового ребенка.
— Ступай домой! — грубо приказал ему Майнау и повернулся к нему спиной.
По-детски наивная и вместе с тем меланхолическая улыбка, оживлявшая лицо Габриеля, когда он всходил по ступеням, мгновенно исчезла, а лицо от испуга стало еще бледнее. Сердце Лианы сжалось, когда он с нежной заботой спустил на пол сына сурового человека и не удержался, чтобы не погладить робко и ласково курчавую головку Лео… Бедный «козел отпущения»! Его юная душа отдана была во власть строгой церкви и ревностно-религиозной аристократии, а могущественный человек, который мог бы защитить мальчика, ослепленный предубеждением, презирал его и унижал.
— Покойной ночи, милое дитя! — крикнула она мальчику, когда тот неслышным шагом спускался по лестнице.
Затем она сложила свою работу и встала. Сознавая свое полнейшее бессилие, она ни слова не сказала в защиту несчастного ребенка, но, стоя теперь перед мужем, олицетворяла протест против жестокости владельца замка.
Майнау молча смотрел на нее сбоку, снова закуривая свою сигару.
— Видишь ли ты это дивное дерево? — спросил он холодно, указывая на одну из банановых пальм в индийском саду. — Оно гордо возносится к холодному небу, между тем как чужеземное человеческое отродье унижается до скотского служения. В таких случаях я не знаю жалости.
Молодая женщина стояла спиной к нему и убирала рукоделие в рабочую корзинку и даже не подняла глаз при его словах.
— Не будешь ли так добра хотя бы взглянуть на меня? — сказал он строго.
В первый раз он оставил тон доброго товарища и заговорил как глава и повелитель, поскольку был оскорблен.
— Недостает еще, чтобы жена демонстрировала мне свое нравственное превосходство и выказывала презрение из-за этого незаконнорожденного!
Юлиана испугалась, как бывало дома, когда слышала повелительный голос матери. Она робко повернулась к нему и в эту минуту ее побледневшее лицо стало особенно миловидным, девственно-чистым. На Майнау смотрели большие испуганные глаза.
Горевший гневом и досадой взгляд его тотчас же смягчился.
— Боже мой, как ты бледна, Юлиана! Ты смотришь на меня так, как Красная Шапочка на злого Волка… Неужели ты сомневаешься теперь в моем дружеском отношении к тебе?.. А? Мне было бы жаль, — сказал он с сожалением, пожимая плечами, как будто опасаясь за тщательно сохраняемую скуку в Шенвертском замке. — Я хочу открыть тебе некоторые обстоятельства, — прибавил он, порывисто прохаживаясь по залу. — Когда дядя Гизберт после продолжительного отсутствия вернулся в свое отечество, мне было лет четырнадцать, и я обожал своего «индийского дядю», хотя никогда его не видел. Знали, что он посредством торговли в тысячу раз увеличил свою часть наследства. Рассказы о его жизни могли бы занять не последнее место в сказках «Тысячи и одной ночи», но когда он, еще будучи в Бенаресе, распорядился купить Шенверт и устроить здесь все по своему вкусу, то граждане нашей благословенной столицы буквально разинули рты… Я никогда не забуду его, этого красавца со своеобразными манерами и гениальной головой, в которой гнездилась самая мрачная меланхолия. «Кашмирская долина» была его идолом, а за проволочной оградой поселилось существо, которое по его приказанию было перенесено на носилках из дорожной кареты в индийский домик. Те, кому выпало счастье нести «бледный лотос с берегов Ганга», клялись потом, что это не женщина, а воздушная нимфа.