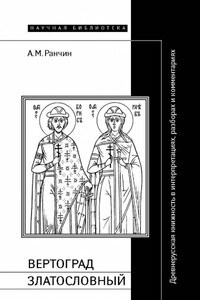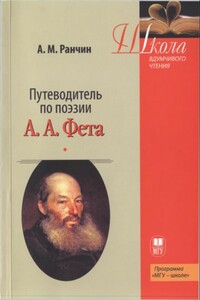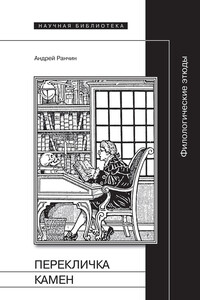Борис и Глеб - страница 53
Можно было бы отбросить это известие как условность, диктуемую жанром жития: агиограф просто проиллюстрировал речение Христа. Но вот иное свидетельство. Креститель Болгарии Борис I вопрошал папу Римского Николая, дозволительно ли казнить преступников правителю-христианину или он должен прощать их во имя милосердия и любви к ближним>{245}. Показательно и то, что в «Законе судном людем», составленном во второй половине IX века в период моравской миссии святых Константина-Кирилла и Мефодия, жестокие наказания за тяжкие преступления (ослепление, отрезание носа и прочие) заменялись продажей в рабство>{246}. В Византии же нанесение увечий и смертная казнь применялись очень широко.
Не очень ясно, что именно подразумевается в летописном тексте под словом «казнь». В.О. Ключевский напомнил, что слово «казнь» в древнерусском языке означало просто наказание, в том числе наказание со стороны власти, правительственное наказание, но не обязательно лишение жизни по закону, смертную казнь. Об этом свидетельствуют летописи, а из древнерусского свода законов — «Русской Правды» — следует, что «наказанием» мог называться и денежный штраф. Соответственно, решил В.О. Ключевский, Владимир под влиянием епископов заменил какое-то прежнее возмездие за разбой не смертной казнью, а иным наказанием — преданием имущества разбойника на поток и разграбление>{247}.
Однако господствует иное понимание летописного сказания: Владимир отверг денежный выкуп за убийство и ввел смертную казнь либо физические наказания в виде нанесения увечья палачом под влиянием епископов, но потом отказался от смертной казни из-за потерь, которые стала нести казна>{248}.
Отказ от смертной казни характерен и для позднейшего древнерусского писаного закона. «Русская Правда», составлявшаяся в XI веке, при Ярославе Мудром и его сыновьях, допускает месть преступнику со стороны родичей жертвы. Однако княжеский суд, согласно этому документу, право казнить преступников не использует, хотя в других законодательных нормах учитывает византийский опыт. «Следуя византийской линии в вопросе о займах, русские не взяли из византийской традиции ни смертного приговора, ни телесных наказаний. Во всех случаях, когда византийский закон предписывает порку или другие формы телесного наказания, “Правда” заменяет их денежными штрафами: такое-то количество гривен вместо такого-то количества плетей», — писал Г.В. Вернадский>{249}.
Первым обрядом для ребенка было церковное таинство — крещение, но крестили его еще новорожденным, и этого события дитя не помнило[77]. Первым же обрядом, который совершался над мальчиками уже в сознательном возрасте, были постриги. «В возрасте между двумя и четырьмя годами юному княжичу выбривали тонзуру в знак его высокого ранга, и по этому случаю он получал особое благословение Церкви. Существовал обычай совершать обряд в день именин мальчика. Согласно обряду мальчика сажали верхом на лошадь, что было предвосхищением его воинской карьеры. Оба события отмечались пышными пирами во дворце его отца. Затем мальчика вверяли заботам наставника (кормильца), и примерно в возрасте семи лет его обучали читать, а потом писать»>{250}.
Постриги были символической социализацией — переходом от «природного» младенческого состояния в новый статус — «маленького взрослого», которого начинали воспитывать. Происхождение обряда, известного у разных славянских народов, не очень ясно. Есть версия, что он мог быть заимствован из Византии, а в конечном счете восходит к ветхозаветным образцам>{251}. Но вряд ли это так. Обряд упоминается еще в трагедии древнегреческого драматурга Эсхила «Хоэфоры» (V век до нашей эры). Позднее, уже совсем в другую эпоху русской истории, постриги совершались у донских казаков. Церковь обличала их как языческий пережиток, связанный с культом богинь — покровительниц родов