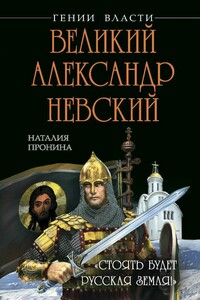Чтоб ничему он больше не служил,
Чтоб божье делом рук людских не стало.
О, дайте этим умереть счастливцам,
О, пусть в позоре, в суете, в тщете Не изойдя, свободные, в свой срок Себя с любовью отдадут богам.
Только смерть может спасти святыню поэта, не надломленный, не загрязненный жизнью энтузиазм, только смерть может увековечить его существование в мифе:
Иное не идет тому, пред кем В великий смерти час, в священный день Божественное сбросило покровы,
Кого небесные любили, в ком
Дух мира собственным раскрылся духом.
В предвкушении смерти он упивается последним, высшим вдохновением: как у лебедя в смертный час, раскрывается замкнутая душа в музыке... в музыке, зазвучавшей красотой нескончаемой. Ибо здесь кончается трагедия или, вернее, улетает в высь. Подняться над этим блаженством саморастворения было для Гёльдерлина невозможно — только снизу отвечает удаляющемуся, точно в эфирные выси уносящемуся голосу освобожденного железный хор, воспевая вечную необходимость:
Так дух пожелал И время, что зреет, Ибо нуждались, Слепые, мы в жертве.
И хор воздает хвалу непостижимому:
Велика его слава,
И в жертву отдан великий.
Последним своим словом, последним дыханием Гёльдерлин воспевает судьбу, непоколебимо верный жрец священной необходимости.
Нигде поэтическая интуиция Гёльдерлина, созидателя высоких образов, не была так близка к греческому миру, как в этой трагедии, которая в своем двояком значении — жертвоприношения и торжественного вознесения — постигает героическую высоту античности полнее и чище, чем всякая другая немецкая трагедия. Одинокий человек, упрямо и любовно поднимающий бунт против богов и судьбы, исконная мука гения в разнородности и дробности неокрыленного мира — в этом стихийном конфликте Гёльдерлин победоносно разрешил свою тоску. То, что не удалось Гёте в «Тассо», где страдания поэта сведены к житейским невзгодам, к буйству тщеславия, классового высокомерия и обманутой любовной мечты, здесь, благодаря чистоте трагической основы, приобретает верность мифа; в лице Эмпедокла гений совершенно обезличен и его трагедия есть трагедия поэзии, трагедия творчества вообще. Ни одной пылинки лишнего эпизода, ни одного пятна театральной мишуры на величественно развевающемся плаще драматического шествия, женщины не тормозят подъема эротическими сплетениями, ни рабы, ни слуги не вмешиваются в ужасный конфликт одинокого поэта с возлюбленными богами: благоговейная вера Данте, Кальдерона и античности веет над необозримым простором, расстилающимся над единой судьбой, и так стоит она под открытым небом времен. Ни одна немецкая трагедия не знает такого необъятного неба, ни одна не вырастает так естественно из деревянного города греческих республик, из экклесии, из открытого рынка, ни одна не стремится так неуклонно к жертвеннному искуплению. В этом фрагменте (как и в другом — в трагедии о Гискаре) еще раз воплотился в явь античный мир, воскрешенный волей страстной души. Мраморное здание со звенящими колоннами, высится «Эмпедокл», словно греческий храм в нашем мире, — как будто недостроенный, будто обломок, и все же полная законченность и совершенство.
Загадка — то, что чистым рождено.
Даже Песня ее не должна открыть.
Ибо,
Как ты начал, так и будет.
Из тетрархии греческого мироздания — огонь, вода, воздух и земля — в поэзии Гёльдерлина отобразились только три: нет земли, тусклой и вязкой, связующей и образующей, прообраза пластики и суровости. Его стих создан из огня, возносящегося к небу; символ взлета, вечного вознесения, он легок, как воздух, вечное парение, блуждание облаков и звучащий ветер; как вода, он чист и прозрачен. Он сверкает всеми красками, всеща он в движении, беспрерывный прилив и отлив, вечное дыхание созидающего духа. Его стих не пускает корней, не связан с миром явлений, всеща он враждебно отталкивается от тяжелой, плодоносной земли, ему свойственно нечто безродное, беспокойное, нечто от бродящих по небу облаков, то вспыхивающих зарей вдохновения, то омрачаемых тенью меланхолии, и часто сверкает из их сумрачной гущи воспламеняющаяся молния и раздается гром пророчества. Но всеща он блуждает в высшем, в эфирном мире, всеща он оторван от земли, недоступен чувственному осязанию, открыт лишь внутреннему чувству. «В песне реет их дух», — сказал однажды Гёльдерлин о поэтах, и в этом реянии, веянии переживания всецело воплощаются в музыку, как огонь в дым. Все направлено в высь: «Теплом уносится дух в эфир», — горением, испарением, испепелением материи сублимируется чувство. Поэзия в представлении Гёльдерлина обозначает всеща превращение твердого, земного вещества в духовное, сублимацию мира в мировой дух, отнюдь не сгущение, уплотнение и отвердение. В стихотворении Гёте, даже в самом одухотворенном, все же ощущается субстанция, его вкушаешь, как плод, его можно целиком охватить органами чувств (в то время как стихотворение Гёльдерлина ускользает). Как бы ни было оно возвышенно, в нем всегда сохраняется доля теплой телесности, аромат времени, возраста, соленый привкус земли и судьбы: всегда есть в нем частица личности Иоганна Вольфганга Гёте и отрезок его мира. Стихотворение Гёльдерлина сознательно обезличено: «Личное противоречит чистому, его воспринимающему», — говорит он туманно и явственно в то же время. Благодаря этому отсутствию материи его стиху свойственна своеобразная статика; он не покоится замкнуто в самом себе, он держится в воздухе, как аэроплан — благодаря полету; всегда возникает ощущение чего-то ангелоподобного от этой чистоты, от этой белизны, — чего-то бесполого, парящего, словно сон возносящегося над миром, чего-то блаженно-невесомого и разрешенного в собственной мелодии. Гёте творит, исходя из земного, Гёльдерлин вдохновляется надземным: поэзия для него (как для Новалиса, для Китса, для всех этих рано ушедших гениев) — преодоленная сила тяготения, слово, растворенное в звуке, возврат в бушующую стихию.