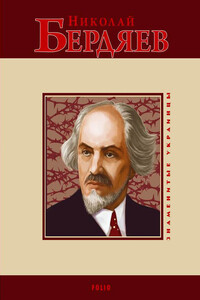к которым прикоснулось дыхание времени, те, которые согреты теплотой тела народа, изношены и потерты от употребления. Как жрец, всегда в строгом, белом облачении, так шествуют стихи Гёльдерлина в торжественных, лишенных прикрас одеждах языка, отличающих его от щеголеватых, легкомысленных, распутных поэтов. Он намеренно выбирает облачные, многозначительные слова, будто фимиам распространяющие вокруг себя священное, праздничное благоухание. Всего сочного, осязаемого, строго очерченного, пластичного, чувственного совершенно лишены эти парящие словесные образования. Гёльдерлин никогда не выбирает слова, которые силой тяготения, силой колорита могли бы создать чувственный эффект: он выбирает те, которым свойственна центробежная сила, сила полета, те, которые способны развенчать действительность, слова, уносящие из низшего мира в высший, в «божественный» мир экстаза. Все эти эфемерные эпитеты — «блаженный», «небесный», «священный», эти ангельские, эти бесполые слова — так хотелось бы мне их назвать — лишены красок, как белое полотно, как парус... именно как парус, наполненный бурей ритма, дыханием вдохновения, — так округляют они свою напряженную ткань и уносят в дали. Вся сила Гёльдерлина, вся его сила (как я уже говорил) проистекает единственно от возносящей силы его вдохновения: все предметы, а значит — и слова он возносит в иную сферу, где они приобретают иной, специфический вес, не тот, что в нашем тусклом, сниженном, суженном мире, где они только «облако благозвучия». Там, «в веющей песне», эти пустые, лишенные красок слова внезапно освещаются новым светом, они торжественно плавают в эфире и таинственно гремят тайным смыслом. Значительностью, высшим предчувствием магически облечены его слова, а не простым значением. Его стих не стремится к образности, он хочет только лучезарности (потому он и не отбрасывает пластической тени); он отказывается рисовать обрывки земной реальности: он устремляется к нечувственному; лишь то, что предугадывается духовным чувством, он уносит в небеса. Поэтому характерен для стиха Гёльдерлина бурный порыв в высь; все его стихотворения начинаются, как он однажды говорит о трагической оде, «с великим жаром, чистый дух, чистая духовность переступает свои грани». Первым строкам его гимнов всегда присуща известная краткость, отрывистость, как бы отталкиванье от земли: поэтическое слово должно прежде всего уйти от прозы бытия, чтобы унестись в свою стихию. У Гёте нет резкого перехода от поэтической прозы (в особенности в юношеских письмах) к стиху, нет цезуры между двумя формами поэтической мысли: подобно амфибии, живет он в двух мирах — в прозе и в поэзии, в плоти и в духе. Напротив, Гёльдерлин не обладает легкостью в беседе; его проза, в письмах и в статьях, постоянно спотыкается о философские формулы, она неуклюжа в сравнении с божественной легкостью естественной для него связанной речи: как «Альбатрос» в стихотворении Бодлера, он с трудом передвигается по земле и блаженно парит и покоится в облаках. Едва Гёльдерлин, оттолкнувшись от земли, достигает сферы вдохновения, как ритм льется с его уст, словно огненное дыхание, чудесную вязь искусных сцеплений сплетает затруденный синтаксис, блестящие инверсии контрапунктируют с ослепительной, с волшебной легкостью: будто прозрачная ткань, будто кристальное крыло насекомого, — так открывает «веющая песня» сквозь эти звенящие, светящиеся крылья эфир и его безбрежную синеву. То, что реже всего встречается у других поэтов, — устойчивость вдохновения, непрерывность певучего потока, звуков — для Гёльдерлина самое естественное явление: в «Эмпедокле», в «Гиперионе» никогда не сбивается ритм, ни одна строка ни на миг не спускается на землю. Нет прозаизма для его вдохновения: его поэтическая речь в сравнении с прозой жизни звучит словно чужеземный язык, никогда он не примешивает низменных слов к возвышенным. Лиризм, энтузиазм в минуты вдохновения до краев наполняет его существо, восторг «паденья в высь», как он прекрасно выразился, уносит его далеко за пределы действительности. Что творчество было в нем сильнее интеллекта, что язык поэзии был ему роднее, чем язык жизни, потрясающим символом отразилось в его судьбе: лишившись рассудка, Гёльдерлин теряет способность к низменной земной речи, к беседе, но до последнего часа звонкой струей бьется в нем ритм, сияющей песней слетая с его нетвердых уст.