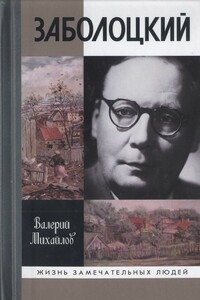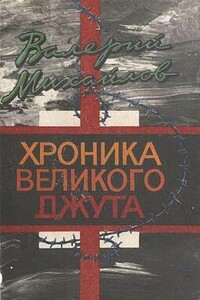В воспоминанье горделиво
Хранить я буду оный день!
Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!
Давыдов благородный отличался редкой верностью к братьям по Парнасу, особенно к тем, к которым он благоволил. Он помогал и делами, и добрым советом. Он знал, что происходит в доме Боратынского, и ещё лучше знал его натуру. Когда дошло печальное известие о кончине императора Александра I в Таганроге, именно он сказал поэту: иди в отставку!
Действительно, лучшего момента для этого было бы не сыскать.
10 декабря Д. В. Давыдов вновь обратился с просьбой к старинному другу своему А. А. Закревскому: «<…> Мой протеже Баратынский здесь, часто бывает у меня, когда не болен, ибо здоровье его незавидное. — Он жалок относительно обстоятельств домашних, ты их знаешь — мать полоумная и, следовательно, дела идут плохо. Ему надо непременно идти в отставку, что я ему советовал, и он совет мой принял. Сделай милость, одолжи меня, позволь ему выдти в отставку, и когда просьба придёт, то ради Бога скорее — за что я в ножки поклонюсь тебе, ты меня этим навек обяжешь <…>».
Ожидание развязки с военной службой скрашивали письма друзей. Пушкин сообщал, что сочинил романтическую трагедию — «Бориса Годунова», звал в гости в Михайловское. (Увы, это его письмо не сохранилось.) Дельвиг сокрушался, что не получает ни строчки, и передавал поклон от молодой жены. «<…> Она думает, что при тебе я должен ей показаться ещё лучше, чем без тебя. Друг подсоусивает друга <…>», — шутил «божией милостью барон». А про современную словесность замечал уже не шутя — с горечью: «<…> Литература уже давно не принимается или не должна быть принимаема в гостиную: так она грязна. Об ней говоришь в передней с торгашами <…>».
Боратынский отвечал Пушкину — пространно и с необычайной серьёзностью:
«Благодарю тебя за письмо, милый Пушкин: оно меня очень обрадовало, ибо я очень дорожу твоим воспоминанием. Внимание твоё к моим рифмованным безделкам заставило бы меня много думать о их достоинстве, ежели б я не знал, что ты столько же любезен в своих письмах, сколько высок и трогателен в своих стихотворных произведениях. — Не думай, чтобы я до такой степени был маркизом, чтоб не чувствовать красот романтической трагедии! Я люблю героев Шекспировых, почти всегда естественных, всегда занимательных, в настоящей одежде их времени и с сильно означенными лицами. Я предпочитаю их героям Расина; но отдаю справедливость великому таланту французского трагика. Скажу более: я почти уверен, что французы не могут иметь истинной романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться — но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю французских классиков, они знали свой язык, занимались теми родами поэзии, которые ему свойственны, и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется, что они садятся в чужие сани. — Жажду иметь понятие о твоём Годунове. Чудесный наш язык ко всему способен, я это чувствую, хотя не могу привести в исполнение. Он создан для Пушкина, а Пушкин для него. Я уверен, что трагедия твоя исполнена красот необыкновенных. Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений! Возведи русскую поэзию на ту степень между поэзиями всех народов, на которую Пётр Великий возвёл Россию между державами. Соверши один, что он совершил один; а наше дело — признательность и удивление <…>».
Такой мощный пафос никогда — ни прежде, ни впоследствии — не охватывал Боратынского.
По сути это молитва о русском языке, о русской поэзии, о Пушкине.
Быть может, лучше всех в России Боратынский понимает и предчувствует, что́ велено и суждено совершить Пушкину — и только Пушкину.
…Это письмо — впрочем, как и все высказывания Боратынского — начисто опровергает мнение некоторых толкователей литературы о соперничестве двух поэтов, о тайной зависти Боратынского к первенству Пушкина, о его якобы ущемлённом самолюбии и недовольстве тем, что пришлось остаться в тени того, кто горел и светил, как солнце, в русской поэзии.