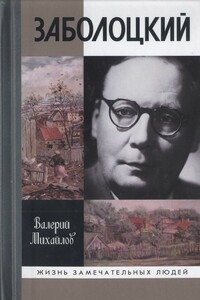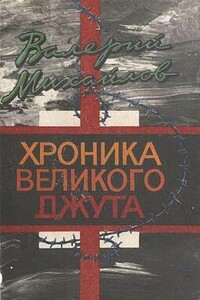Другой визит был в Остафьево, в усадьбу князя Вяземского. Боратынский отправился туда полубольным, «с круговращением Меркурия в жилах», как пошутил Александр Муханов, составивший ему компанию. Но проехавши с десяток вёрст, друзья попали в метель, промёрзли и вернулись в Москву…
Глубокая ипохондрия матери, её внезапная немощь так поразили Боратынского, что он по-настоящему заболел. С ними повторилась обычная история: душевные переживания быстро оборачивались тяжёлым недугом. Юношей, после исключения из Пажеского корпуса, он перехворал особенно тяжко и чуть не умер. Теперь он страдал хоть и не так продолжительно, но всё же достаточно сильно.
Нет или не сохранилось никаких свидетельств от самых близких поэту людей о том, что́ же происходило той осенью в его московском доме. Но вот что сам поэт с прямотой и искренностью поведал Николаю Путяте, с которым он так сроднился душой в Финляндии:
«Ежели с приезда в Москву я к тебе не писал, милый Путята, я виноват не душой, а бренным моим телом, заболевшим через неделю после. Я теперь ещё не выезжаю: однако ж в первые дни успел повидаться с твоим батюшкой, с Рылеевым и с Мухановым. Странно, что, проживши почти два месяца в Москве, я принуждён писать к тебе как будто из Кюмени, ибо не знаю ничего нового, ничего не мог заметить, почти ни с кем не познакомился и сидел один в моей комнате с ветхим моим сердцем и с ветхими его воспоминаниями. <…> — За неимением занимательнейшего предмета буду говорить о себе. Я нашёл семью свою в Москве. Свидание было радостно и горестно. Я нашёл мать мою в самом жалком положении, хотя приезд мой оживил её несколько. Брат Путята, судьба для меня не сделалась милостивее. Поверишь ли, что теперь именно начинается самая трудная эпоха моей жизни. Я не могу скрыть от моей совести, что я необходим моей матери, по какой-то болезненной её нежности ко мне, я должен (и почти для спасения её жизни) не расставаться с нею. Но что же я имею в виду? Какое существование? Его описать невозможно. Я рассказывал тебе некоторые подробности, теперь всё то же, только хуже. Жить дома для меня значит жить в какой-то тлетворной атмосфере, которая вливает отраву не только в сердце, но и в кости. Я решился, но признаюсь, не без усилия. Что делать? Противное было бы чудовищным эгоизмом… Прощай, свобода, прощай, поэзия! Извини, милый друг, что налегаю на твою душу моим горем, но, право, мне нужно было несколько излиться <…>».
Боратынский задумал перевестись в один из полков, квартировавшихся в то время в Москве, чтобы находиться рядом с матерью. Опять ему требовалась поддержка Дениса Давыдова, чтобы тот договорился с генералом Закревским. Уже и Финляндия, место его изгнания, рисовалась ему совсем иначе, чем прежде:
«Приезжай, милый Путята, поговорим ещё о Финляндии, где я пережил всё, что было живого в моём сердце. Её живописные, хотя угрюмые горы походили на прежнюю судьбу мою, также угрюмую, но по крайней мере довольно обильную в отличительных красках. Судьба, которую я предвижу, будет подобна русским однообразным равнинам, как теперь покрытым снегом и представляющим одну вечно унылую картину <…>».
Его пасмурное настроение развеяло лишь знакомство с Денисом Васильевичем Давыдовым, с которым он встретился в доме Мухановых на Остоженке. До этого они никогда не встречались и были знакомы только заочно; знаменитый воин-партизан горячо участвовал в судьбе собрата-поэта и многим помог ему. Александр Муханов писал брату Николаю, что вместе с Давыдовым и Боратынским просидели они весь вечер: «<…> ты не можешь себе представить, как первый был хорош <…>». Радость от встречи была столь велика, что буквально на следующий день Боратынский написал стихотворение.
Д. ДАВЫДОВУ
Пока с восторгом я умею
Внимать рассказу славных дел,
Любовью к чести пламенею
И к песням муз не охладел.
Покуда русский я душою,
Забуду ль о счастливом дне,
Когда приятельской рукою
Пожал Давыдов руку мне!
О ты, который в пыл сражений
Полки лихие бурно мчал
И гласом бранных песнопений
Сердца бесстрашных волновал!
Так, так! покуда сердце живо
И трепетать ему не лень,