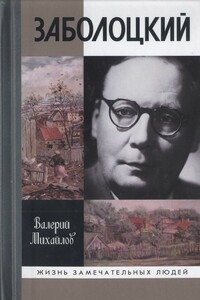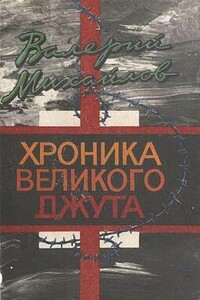И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век
И нас за могильной доскою,
За миром явлений, не ждёт ничего:
Творца оправдает могила его.
И если загробная жизнь нам дана,
Он, здешней вполне отдышавший
И в звучных, глубоких отзывах сполна
Всё дольное долу отдавший,
К предвечному лёгкой душой возлетит,
И в небе земное его не смутит.
(Апрель — май 1832)
Боратынский одинаково готов к любой загробной участи — лишь бы здесь, на земле, отдать «всё дольное — долу» и оправдаться перед вечной смертью или же перед вечной жизнью.
И, разумеется, это оправдание невозможно для него — без спасительной мощи поэзии…
Меж вдохновением и счастьем
С Киреевским он делится самыми заветными размышлениями:
«<…> Что ты мне говоришь о Hugo и Barbier, заставляет меня, ежели можно, ещё нетерпеливее желать моего возвращения в Москву. Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещённого фанатизма: это, как я вижу, явилось в Barbier. Но вряд ли он найдёт в нас отзыв. Поэзия веры не для нас. Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно её разумеем и ещё менее чувствуем. На европейских энтузиастов мы смотрим почти так, как трезвые на пьяных, и ежели порывы их иногда понятны нашему уму, они почти не увлекают сердца. Что для них действительность, то для нас отвлечённость. Поэзия индивидуальная одна для нас естественна. Эгоизм — наше законное божество, ибо мы свергнули старые кумиры и ещё не уверовали в новые. Человеку, не находящему ничего вне себя для обожания, должно углубиться в себе. Вот покамест наше назначение. Может быть, мы и вздумаем подражать, но в этих систематических попытках не будет ничего живого, и сила вещей поворотит нас на дорогу, более нам естественную <…>».
А Петру Вяземскому сообщает, что ничего нового не пишет и «возится» со старым. «Я продал Смирдину полное собрание моих стихотворений. Кажется, оно в самом деле будет последним и я к нему ничего не прибавлю. Время поэзии индивидуальной прошло, другой ещё не созрело <…>».
«Не прибавлю…» — книг? стихов?..
При всей своей выдержке он не справляется уже с резким перепадом настроений — впрочем, присущим любому поэту, тем более столь сильно и тонко чувствующему.
Но что делать, если таковы обстоятельства… Одухотворение творчеством — и бессмыслица жизни. Надежда «лучшего бытия» — и безнадежность вновь и вновь подступающего «помрачения»…
Конечно, у него оставалось спасение: любовь, семья, домашний круг. Недаром в стихах этого времени помимо темы о назначении поэта выделяется иная — о личном счастии, которое Боратынский не мыслит без семьи, без верной и преданной любви.
Стихотворение «Кольцо» («„Дитя моё, — она сказала…“») написано как раз в те годы.
«Дитя моё, — она сказала, —
Возьмёшь иль нет моё кольцо? —
И головою покачала,
С участьем глядя ей в лицо. —
Знай, друга даст тебе, девица,
Кольцо счастливое моё,
Ты будешь дум его царица.
Его второе бытиё.
Но договор судьбы ревнивой
С прекрасным даром сопряжён,
И красоте самолюбивой
Тяжёл, я знаю, будет он.
Свет к ней суровый, не приметит
Её приветливых очей,
Её улыбку хладно встретит
И не поймёт её речей.
Вотще ей разум дарованья,
И чувств, и мыслей прямота:
Их свет оставит без вниманья,
Обезобразит клевета. <…>
Но девы нежной не обманет
Моё счастливое кольцо:
Ей судия её предстанет,
И процветёт её лицо».
Внимала дева молодая,
Невинным взором весела,
И, тайный жребий свой решая,
Кольцо с улыбкою взяла.
Иди ж с надеждою весёлой!
Творец тебя благослови
На подвиг долгий и тяжёлый
Всезабываюшей любви. <…>
Стихотворение обращено к Сонечке Энгельгардт, которой старшая сестра Настасья Львовна подарила кольцо. Боратынский не меньше своей жены желал барышне доброго и достойного мужа — как старший брат он наставляет свою любимицу на семейный подвиг, на всезабывающую любовь.
И до свершенья договора,
В твои ненастливые дни,
Когда нужна тебе опора.
Мне, друг мой, руку протяни.
(1832)
К 1832 году относят элегию Боратынского «Я не любил её, я знал…». Это — воспоминание об одной прошлой любви (адресат неизвестен):