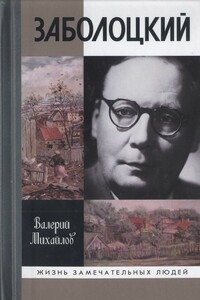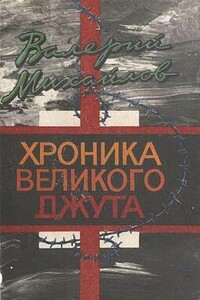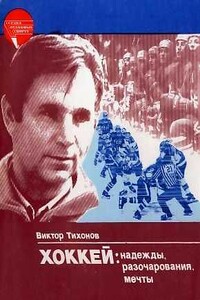Всё это, конечно, так, если бы не одно «но», которое замечаешь, внимательно читая стихотворение:
<…> Мне иногда докучно вдохновенье <…>.
То бишь поразительное признание — связано с минутным настроением.
Исключение не отменяет правила: любовь ещё отнюдь не покорила «бунтующую музу», как бы того, быть может, ни желал сам поэт.
В конце концов жизнь показала, что вдохновение не только не оставило Боратынского, а подарило его ещё более совершенными стихами. А значит — Муза простила его…
Однако и любовь — вознаградила за верность:
Своенравное прозванье
Дал я милой в ласку ей:
Безотчётное созданье
Детской нежности моей;
Чуждо явного значенья,
Для меня оно симво́л
Чувств, которых выраженья
В языках я не нашёл.
Вспыхнув полною любовью
И любви посвящено,
Не хочу, чтоб суесловью
Было ведомо оно.
Что в нём свету? Но сомненье
Если дух ей возмутит,
О, его в одно мгновенье
Это имя победит.
Но в том мире, за могилой,
Где нет образов, где нет
Для узнанья, друг мой милой,
Здешних чувственных примет,
Им бессмертье я привечу,
Им к тебе воскликну я,
И душе моей навстречу
Полетит душа твоя.
(1832)
Встречи и расставания
После запрещения журнала «Европеец» Евгений Боратынский, наверное, понял, как резко сократилось, ужалось, а может, и почти сошло на нет то пространство, которое он привык считать своим. В этом пространстве прежде обитали его друзья, жили его стихи, существовали его читатели, — там ощущалась незримая, тонкая связь между его творческим духом и излучением других душ, откликающихся на слово. Ему было больно сознавать, что такой великолепный критик, как Иван Киреевский, отныне отлучён и, по-видимому, надолго — от русского читателя. Поэт старался ободрить друга — а вместе с ним, пожалуй, и самого себя:
«<…> Неужели ты с тех пор ничего не пишешь? Что твой роман? Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделывал бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления <…>».
Летом 1832 года поэт с семьёй отправился из Казани в Тамбовскую губернию, в Мару: пора было навестить мать, Александру Фёдоровну. Ему не слишком хотелось ехать на родину: отношения с некогда горячо любимой маменькой в последние годы разладились. Скрыть это было невозможно, тем более в собственной семье и родне.
В письме Софье Энгельгардт, написанном в июне вместе с женой, есть совершенно для него непривычные по откровенности слова, раньше просто немыслимые: «Мы отправляемся в Мару, любезная Софи, и я вполне этим доволен, ибо это путешествие было неизбежно в этом или следующем году, и чем долее оно откладывалось бы, тем более неприятным бы стало. Ты не можешь представить себе ни того, какую жестокую боль причиняет мне поведение маменьки по отношению ко мне, ни того, как борются во мне негодование и чувство почтения, которое я обязан питать к ней как сын. <…> мы будем с нею вежливо обходительны. <…> станем утешаться тем, что на несколько лет вперёд мы будем свободны <…>» (перевод с французского).
По дороге, в Пензе, Боратынский повстречался с Денисом Давыдовым. Был разгар ярмарки: они вместе гуляли по рядам, весело говорили обо всём на свете и досадовали, что нет сейчас рядом ни Вяземского, ни Пушкина…
Прошло несколько дней, и Боратынский вдруг раздумал ехать в Мару и повернул в Москву. Возможно, уступил просьбам жены, которая снова была беременна и плохо переносила утомительную дорогу. К тому же Настасье Львовне ещё сильнее, чем мужу, не хотелось гостить в Маре: накануне поездки она жаловалась младшей сестре на гадких марцев, с которыми нет желания видеться.
Лето, как повелось, провели в Муранове, а осенью вернулись в Москву. Боратынский принялся собирать для издания свою вторую книгу стихов, куда задумал поместить и поэмы.
В конце сентября в Москву приехал Пушкин; заглядывал в гости. Жене, Наталье Николаевне, писал в Петербург: «<…> Кто тебе говорит, что я у Баратынского не бываю? Я и сегодня провожу у него вечер, и вчера был у него. Мы всякой день видимся <…>».