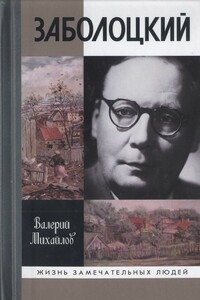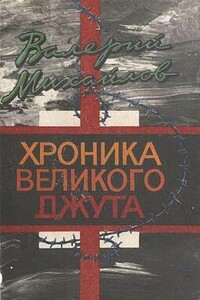Боратынский - страница 145
Врач Девятковский не помог: Катинька умерла…
Спустя немного времени в письме Вяземскому Боратынский объясняет своё долгое молчание кончиной младшей дочери. Он пишет о своём глубоком унынии. «<…> Потеря ребёнка не есть великая потеря, но она живо напоминает возможность утрат важнейших; и эта смерть, которая так неожиданно, так невозвратно похищает у нас то, что мы любим, долго не выходит из памяти. Смерть подобна деспотичной власти. Обыкновенно она кажется дремлющею, но от времени до времени некоторые жертвы выказывают её существование и наполняют сердце продолжительным ужасом <…>».
Конечно, в то время в многодетных семьях кончина младенца была обычной и не казалась непоправимой бедой, но всё же некий налёт риторики, присущей Боратынскому в его юности, выглядит досадным…
Горе сменилось радостью: 18 июля у Боратынских родился первый сын — Лев, названный в честь Льва Николаевича Энгельгардта. (Заметим в скобках, снова имя выбрано родителями, а не священником по святцам.)
Бедную событиями жизнь в усадьбе скрашивали письма товарищей.
«Верный друг Денис Давыдов» (такой подписался) благодарил из своего симбирского имения Маза за память о нём. Красочно описывал, как пышно и чинно встречали его в Бугульме тамошние дамы и господа: «<…> ибо в провинции я также Бонапарте или, что ещё более, Паскевич». Дивился супруге своего старинного приятеля, бывшего адъютанта из Дрездена, к которому заехал на возвратном пути: «Жена — обрусевшая немка, хорошей фамилии, ибо родная племянница Алопеуса, посла нашего — но обрусевшая, и обрусевшая в Бугульме. Ты можешь вообразить ето химическое соединение <…>».
Пройдясь по бугульминским обывателям, старый партизан принялся за братьев-литераторов: «<…> — Ты описываешь приём персидского принчика — удивляюсь, как можно етого гузнодава так роскошно и великолепно принимать! — Вяземского, московского эмигранта, я видел только в Пензе на ярмарке, где мне очень весело было. После ждал его у <неразборчиво>, но не дождался. Получил от него письма недавно. Он был с каким-то оригиналом провинциальным Кашкарёвым, который, говоря о лесе, сказал: „Quand les bouleaux prennent d’embonpoint!“ <Когда берёзы становятся дородны.> Ещё, чтобы сказать, что у одной госпожи в деревне ярмонка, он говорит: „Cette dame à la foire dans le vein (минуту молчания) de la Campagne“ <в её жилах текут деревенские манеры>. — Видишь, что и мы не без смеха — но редко <…>».
Николай Путята бодро сообщал о победе в войне с Турцией. Вспоминал финляндскую молодость, юные мечты среди «мрачных картин угрюмой природы» о благословенных южных краях: «<…> Знамёна русские развеваются в Адрианополе и издали приветствуют родной щит Олега. С берегов древнего Герба, осенённых шатрами полуночных воинов, я пишу эти строки, чтобы изобразить тебе, как могу, окружающие нас новые для меня предметы. — Адрианополь, с дороги от Ямболя, по которой следовали наши войска, представляется отменно великолепно. Большое число высоких стройных минаретов, разнообразных куполов, блестящих позолотою и яркими цветами <…>; прекрасная тенистая роща вдоль реки, с развалинами обширного дворца султанов <…>» — и далее в том же духе…
Николай Коншин, обосновавшийся в Царском Селе, просил стихов для затеянного там с бароном Розеном литературного альманаха. Боратынский с радостью отвечал другу, винился за долгое молчание, но много стихов не обещал: «<…> Нынешний год за разными семейными заботами я писал особенно мало; но чем богат, тем и рад: братски поделюсь между тобой и Дельвигом <…>». Поздравлял «милого Коншина» с «семейственными надеждами» (у Коншина намечалось прибавление в семье): «Знаю по себе, как велика радость быть отцом. У меня, брат, уже порядочная семейка: сын и дочь, да я ещё потерял одну малютку <…>. Не забудь меня уведомить, что тебе Бог даёт. Я в моей татарской глуши выпью за здоровье твоего потомства <…>».
В сентябре 1829 года Боратынский с женой и детьми уехал в Мару и надолго, до следующей весны. «<…> Надеюсь, что в деревенском уединении проснётся моя поэтическая деятельность, — писал он Ивану Киреевскому, который собирался за границу. — Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем твёрже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии <…>».