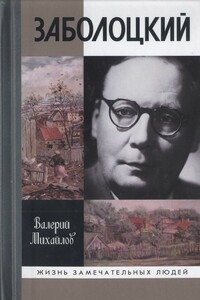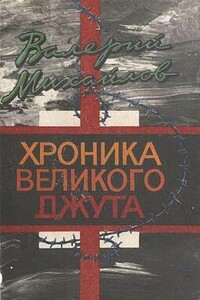В записной книжке одного из виднейших любомудров, Владимира Фёдоровича Одоевского, есть интересная мысль о поэзии и философии, — причём записана она как раз в то время, когда Боратынский тесно подружился с Киреевским, — в мае 1830 года: «Что наиболее меня убеждает в вечности моей души — это её общность. На поверхности человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе, так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или — другими словами — никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным характерам лица, один стремится извергнуть свою душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства внутри святилища. В религии соединяется и то и другое. Религия выносит на свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая её, в новейшие постарались заменить её, в будущем они снова сольются с ней. <…>
(Поэт — пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живёт он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном пути, а не на противоестественном <…>)».
И наконец:
«Кто же больше имеет значения — поэт или философ? Сей вопрос существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души, ибо он гость времени, которое философ употребляет на бо́льшее погружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы, но зато он всё же что-либо, но выносит на свет; истинный философ не унижается до сего, если он и берёт в руки перо, то есть становится на минуту поэтом, то ждёт образов наиболее близких к чистым идеалам души, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постигнуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии разовьётся поэзия, что в звуках кроме мелодии есть гармония или, лучше, что мелодия в чреве своём носила гармонию».
Вот, пожалуй, лучший, современный Боратынскому и Киреевскому, ответ на вопрос: кто на кого и как повлиял…
В заботах семейных и литературных
Не успели толком расположиться в мурановском доме, как тяжко занемогла годовалая Катенька. Боратынский повёз дочку в Москву; Настасья Львовна осталась дома: она была на сносях, а дорога дальняя да и в тряской коляске… Впервые после женитьбы они разлучались. Добравшись до Москвы, Боратынский — так же впервые — писал жене:
«Я приехал цел и невредим, мой милый друг. Катинька теперь спит, но говорят, что ей лучше, кашляет она меньше и становится веселее. Не могу судить о том сам, ибо пишу к тебе тотчас по приезде. На сердце у меня тяжело, потому что мы разделены: это испытание разлукой — истинное наказание. Я чувствую себя совершенно потерянным. Увидел в нашей спальной твою шляпку и несколько платьев, и у меня так тоскливо сжалось сердце, что я испугался. Я как-то слишком бегло обнял тебя при отъезде, присутствие посторонних стесняло меня: а как только экипаж тронулся, я почувствовал, что мне недостаёт прощального поцелуя. Тоскующее сердце моё просило его. Очень непривычно писать к тебе. Как будто начинаешь письменное знакомство, совсем другое, чем наше с тобою. Что за ничтожное занятие — писать, и тот, кто сказал, что оно облегчает разлуку, был человеком очень холодным. Я хотел бы тебе изъяснить всё то, что не могу выразить. Я не выскажу никогда нужного мне, и всегда буду бояться, как бы все эти обороты, без коих не обойтись ни в одном письме, не уверили тебя, будто я пишу к тебе так, как к любой другой. Помнится, я рассказывал, как муж Марьи Андреевны заканчивал письма, которые он ей писал: то был перечень ласковых имён и прозваний; мы тогда весьма позабавились этому, но знаешь ли, сейчас мне кажется, что он очень любил свою жену, и в этом нет ничего смешного. А коли так, я хотел бы тебе сказать всё самое нежное, и не могу найти ничего лучше, чем назвать тебя Попинька, как будто ты рядом со мной. Душинька моя Попинька, да сохранит тебя Господь <…>. Если в течение вечера найдётся сообщить тебе что-нибудь занимательное, допишу. Обнимаю тебя сердечно. Девятковский приходил смотреть Катиньку вчера и сегодня <…>»