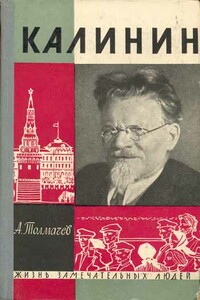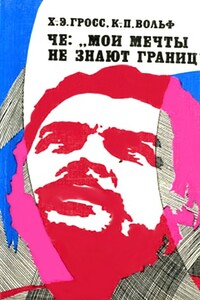Замечательный дневник вел заместитель политрука Георгий Сазыкин. Впервые напечатанный в нашей газете, он вскоре стал достоянием читателей всего советского народа. Волнующий и захватывающий своим содержанием, этот дневник был помещен в центральном органе нашей партии - в газете "Правда".
Особенно много поступило в газету стихов. Писали главным образом красноармейцы. Многие писали впервые. Ценно и замечательно во всех этих стихах было то, что в них бойцы нашей Красной Армии, сыны великого советского народа, вдохновенно рассказывали о своих помыслах и чаяниях, о непреклонной воле к победе, о готовности отдать жизнь за любимую родину.
Так, с большой теплотой и любовью запечатлели светлый образ товарища в своем коллективном стихотворении "Мы отомстили врагу" красноармейцы Я. А. Одегов и В. С. Морохин. Они писали:
"Выполняя долг перед страною,
Миша Тихонов, товарищ наш, мечтал:
Проучить отличною стрельбою
Самураев, но, сраженный, пал...
Умирая, он просил не плакать.
"Отомстите!" - говорил он нам".
Отомстить! Этот завет товарища-героя бойцы с честью выполнили. Как выполнили, рассказывается в следующих строках стихотворения:
"И катились грозные раскаты
Батареи нашей по врагам.
За удар, за Мишу самураи
Поплатились жизнью, головой.
Мы по ним без промаху стреляли
И победой завершили бой".
И вот заключительная строфа этого стихотворения, характерного для красноармейского творчества в. дни боев:
"Мы врагу жестоко отомстили.
Если ж враг осмелится опять
Нападать, то будем бить, как били,
И, как Миша Тихонов, мечтать".
Масса материала поступала с многочисленных митингов и собраний, проходивших непосредственно на передовых позициях, часто под артиллерийским обстрелом противника, в окопах, на исходном положении для наступления, перед атакой.
Партийно-политическая работа в боевых условиях не только не суживалась, а, наоборот, приобретала больший размах, обогащалась новыми формами и методами, не имевшими места в мирных условиях.
В партийные и комсомольские организации хлынул поток заявлений о приеме в партию и комсомол. И в первые же дни руководящие партийные и комсомольские органы встали перед фактом неподготовленности и часто просто неумения справиться с большой работой по приему и оформлению дел вновь вступающих в ряды партии и комсомола. Пришлось перестраиваться на ходу, приспосабливаясь к боевой обстановке.
Необычайно выросла политическая активность всего личного состава действующих частей. Одни просили разрешить им первым атаковать вражеские позиции, другие заявляли, что они хотят пожизненно остаться в РККА, и тут же требовали положительного ответа; третьи хотели бы "окончательно покончить с японцами" и т. п. Раненые отказывались уходить с боевых позиций; часовые, дежурные, связные и наблюдатели, гае же сменяться, несли свою службу по-двое и по-трое суток; товарищи, занятые в тылу, считали себя обиженными, рвались на передовые позиции; саперы, связисты - все добивались того, чтобы пойти в бой, участвовать в атаках и показать свою отвагу. Надо было подхватить и возглавить небывалую боевую, политическую активность бойцов и командиров, направить ее к единой цели - сокрушительному разгрому японских захватчиков.
Все это диктовало и рождало новые формы и методы партийно-политической и массово-воспитательной работы, отвечающие требованиям и обстановке боевых действий против подлого и коварного противника.
Ясно, что в этих условиях исключительно высокой политической активности масс жаловаться на недостаток материала с мест нам, работникам газеты, не приходилось. Трудность вставала другого порядка. Надо было обобщать опыт, выбирать главное, не отставать с постановкой тех или иных вопросов, своевременно доносить до читателя большевистское печатное слово. Здесь мы не всегда справлялись со своими задачами, особенно в первые дни. Нам также недоставало опыта работы в боевых условиях, надо было учиться и приобретать этот опыт на месте.
Сила большевистской печати
Довольно сложную задачу в условиях хасанских событий представляло экспедирование газеты на передовые позиции. Подступы к этим позициям были очень затруднительны. Местность изобиловала болотами и озерами, тропы и проселочные дороги (единственные пути сообщения) превращались в сплошное месиво при первом, даже незначительном, дожде.