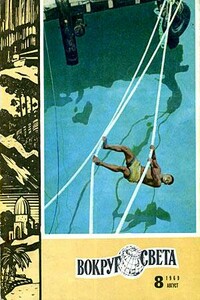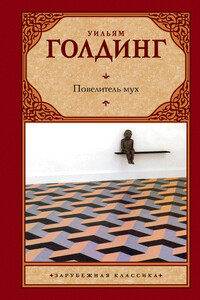Он поднял глаза, увидел дочь и, прежде чем снова уткнуться в доску, благосклонно улыбнулся ей. Прекрасный Цветок продолжала танец, жестом приглашая полюбоваться тонкой своей талией и сложными узорами, какие выписывали ее бедра, медленно вращаясь под последним покровом. Если бы удалось под слоем искусно нанесенной краски прочитать выражение ее лица, то взору открылось бы беспокойство, переходящее в полное отчаяние. Она дольше, чем полагалось, задерживалась на каждой фигуре танца, словно откровенной настойчивостью можно было увеличить их влекущую силу. Ее кожа блестела сейчас не только от благовонного масла.
Музыкантам приходилось несладко. Арфист ударял по струнам круговым движением с упорством крестьянки, перетирающей зерно в каменном жернове. У флейтиста глаза сошлись к переносице. Один барабанщик не знал устали и играл на своем инструменте то обеими руками, то одной. Разговор за столами шел о шашках, об охоте.
— Твой ход, Верховный.
Верховный тряхнул одновременно головой и чашкой с фишками. Болтун, собрав всю свою смелость, дернул Бога за край юбочки, чтобы привлечь внимание к Прекрасному Цветку. С нее упал последний покров. Теперь на ней ничего не было, кроме украшений, и нагое ее тело сверкало в пламени светильников. Ее губы с подведенными вниз в стилизованной гримасе желания уголками раскрылись, показав мерцающие зубы. Подошла кульминация танца и его завершение. Прекрасный Цветок шла через весь зал, приближаясь к Богу, — ведомая музыкой, манящей, чувственной, — порой сотрясаясь, словно в конвульсиях. Каждые несколько ярдов танец швырял ее на пол: руки раскинуты, колени широко разведены, живот выпячен. Она шла через зал, цепочкой мгновений, от Сейчас к Сейчас и к Сейчас. Она задела бедрами Бога, тот задел доску, и фишки слоновой кости разлетелись в разные стороны. Он гневно отпрянул и воззрился на нее.
— Я тебе что, мешаю?
Перепуганные музыканты смолкли, тишина повисла за столами и над возвышением, по которому разлетелись и замерли фишки. Все как окаменело, боясь пошевелиться. Лишь порывисто вздымалась грудь Прекрасного Цветка, лежавшей ничком на полу.
Высокий Дом задвигался, гнев сошел с его лица. Он провел ладонью по лбу:
— Ах да. Конечно. Совсем забыл.
Он свесил ноги с ложа и сел.
— Знаешь, мне…
— Да, Высокий Дом?
Высокий Дом взглянул на лежащую дочь.
— Это было замечательно, дорогая. Очень обольстительно.
Верховный наклонился к нему:
— Что ж, тогда…
Болтун в отчаянии приплясывал между Прекрасным Цветком и ложем:
— Это твой долг, Высокий Дом! Долг!
Высокий Дом сидел, упершись ладонями в ложе. Он напряг руки, напружинил бицепсы. Подтянулся, подобрал живот, так что под дряблыми телесами слабым намеком обозначились мышцы. Несколько секунд он оставался в таком положении.
— Ну же, Высокий Дом! Пожалуйста.
Бог выдохнул набранный воздух. Он сидел, невидяще глядя перед собой, безвольно повесив руки, обмякнув телом, снова выставив гладкий круглый живот. Потом проговорил бесцветным голосом:
— Не могу.
С шумом, напоминающим свист пролетевшей мимо чудовищной стрелы, он снова втянул воздух. Никто в зале не осмеливался поднять лица. Никто не осмеливался пошевелить пальцем или моргнуть.
Вдруг Прекрасный Цветок вскочила на ноги. Спрятав лицо в ладони, сотрясаясь всем телом, она медленно прошла через весь зал, и занавес сомкнулся за ней.
Из тени позади ложа к Богу метнулся юноша. Наклонился, прошептал что-то на ухо.
— Ах да. Сейчас иду.
Бог встал, и шелест пронесся по залу — то вслед за ним поднялись все присутствующие; но никто по-прежнему не смел поднять глаз, произнести слово. Высокий Дом последовал за юношей темными коридорами и вышел во внутренний двор. Тьма ночного неба густела над головой, растекаясь по небосклону, и на нем ярче проступал неисчислимый небесный народ. Ниже, под крадущейся ночью, ближе к горизонту, небосвод был голубее, светлее и едва ли способен вынести наваливающуюся тяжесть тьмы. Высокий Дом задержался на миг, только для того чтобы окинуть взглядом эту светлую полосу, тихо присвистнул и поспешил в угол двора. Там он негромко сказал юноше: