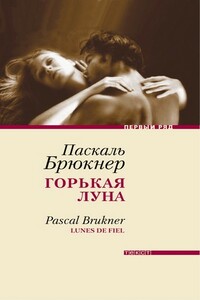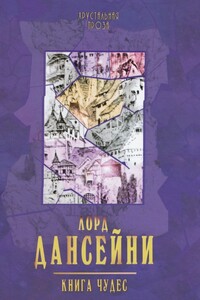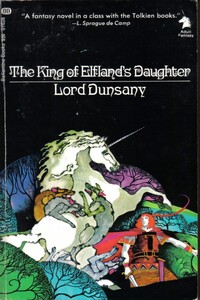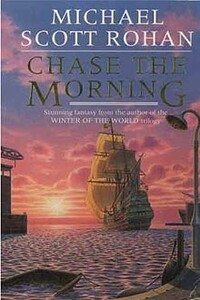Наступила суббота, когда, собственно, он сочинял свои проповеди, и все утро викарий опять просидел в кабинете. Поначалу он думал о Хетли, о епископе, о Перкине, пытаясь представить, какой совет они могли бы ему подать, если бы не отступились от него, потому что в это утро ему опять захотелось получить хоть какую-нибудь помощь, хотя на самом деле желания уже не было, а было лишь воспоминание о нем. Первым делом викарий вычеркнул из памяти Перкина, ведь ему был нужен ясный и убедительный довод, а ничего такого у старого бродяги не могло быть. Интересно, какие книги посоветовал бы ему Хетли? Какую линию убеждения предложил бы епископ? Вскоре, однако, он отмахнулся от этих фантомов и положился единственно на себя. Во время подобных кризисных ситуаций Судьба должна внушать человеку уверенность в своих силах. Но в тот день она была далеко, возможно, помогала малышу отыскать игрушечную лодку в камышовых зарослях и оказалась слишком занятой, чтобы помочь одинокому защитнику христианства; вот и получилось так, что бьющий без промаха довод и извлеченные из истории примеры не были записаны на бумаге.
Глава двадцать девятая
БИТВА
Наступило воскресенье; звонили колокола, когда викарий шел в церковь; звон рассыпался по деревне, ударялся в стены домов и, отскакивая от них, словно слетая с высокой каменной башни, заполнял собой долину. Все было, как обычно бывало по воскресеньям, сколько Анрел служил в Волдинге; однако то время казалось теперь как будто выдуманным. В густых звуках воплотилось все, что только было прекрасного в прошлом, словно сверкающая пыль, которую время соскоблило с изысканной золотой безделушки, попалась в паутину некоего заброшенного дома и сохранилась там, когда от всего остального золота не осталось и следа. Через эту старую победную музыку, на которую отзывались даже кирпичи и шифер, не пробиться свирели, думал викарий, и у него в душе неожиданно расцвела новая надежда, корни которой были в колокольных звуках. Тем не менее текста проповеди у него не было, не было ни одного доходчивого довода, не было вообще ни одного слова.
Викарий принес с собой заметки к проповеди, произнесенной им два или три года назад, когда гроза удержала дома почти всех прихожан, кроме пяти-шести человек, и они-то слушали ее между раскатами грома: Августа напомнила ему об этой проповеди и показала, где лежит конспект. Это была добрая, дружественная, гуманная проповедь и перед лицом беды, грозившей Волдингу, совершенно бесполезная, как понимала Августа, но она также понимала, что ее муж должен проповедовать до последнего, пока не наступит конец, приближающуюся тень которого она уже видела, правда, не знала, каким он будет.
Итак, викарий пришел к своим прихожанам, держа в руках конспект старой проповеди; для противостояния неведомому он был экипирован не лучше солдата, который отправился бы в атаку с сачком.
Во время службы викария одолевало то одно то другое настроение: видя, насколько хватало глаз, заполненные ряды, он верил, что пока побеждает правое дело, а потом его охватывало отчаяние, ибо ему казалось, будто люди пришли на воскресную службу по укоренившейся привычке, как в некоторых приходах, насколько до него доходили слухи, люди являлись в церковь, даже перестав верить, просто потому что так было принято.
Когда же он подошел к кафедре и разложил свои бумаги, а потом поднял голову и оглядел своих прихожан, которых он так долго и близко знал, и увидел на их лицах, открытых ему, морщины, проложенные печалями и радостями, известными ему, тогда все его настроения куда-то испарились и осталась одна жалость, такая глубокая жалость, что ему стало ясно, едва он заговорит, как из его глаз хлынут слезы. Поэтому он стоял и молчал, теребя в руках бесполезные записи. А потом сказал:
– Ах, мои дорогие.
Еще минуту викарий удерживал слова, готовые хлынуть из его уст, потому что их освободила его великая жалость к людям; так в конце концов вырываются из-подо льда потоки, едва их согревает неожиданно нагрянувшая Весна. Он должен был говорить с ними. Но что сказать? И он процитировал по памяти часть фразы из молитвенника: «В дальние времена и в еще более дальние времена». Какой бы смысл ни был заложен в этих словах, они увлекли его мысли в прошлое, словно золотой мостик перекинулся через несчастливые года в более спокойное время, о котором он должен был говорить со своими прихожанами. И он говорил с ними об их садах, о любимых лужайках и живых изгородях, стоявших белыми в конце мая, о цветущем шиповнике и лесных орехах в горах, о безостановочном и неторопливом течении реки через Волдинг, которое было и будет всегда, о той реке, на берегу которой седовласые фермеры время от времени собираются, чтобы ловить гольянов. Легкими путями и милыми его сердцу тропинками викарий уверенно привел крестьян в прошлое. Прежний уклад лучше, сказал он, ведь в нем вера их отцов и обычаи предков. Еще он сказал о том, как мошкара видимым благословением висит над могилами; и сказал, где в начале весны появляются первые анемоны, а где гиацинты, где зажигают костер в горах; это была их история. Никакие доводы не могли бы так захватить людей, как эти простые воспоминания, благодаря которым они мысленно вернулись в прошлое. Разве не были те дни прекрасны, спросил викарий. Не успев ответить ему умом, они с готовностью отозвались сердцем. Викарий обращался к ним попросту, не играя риторическими приемами и не используя университетские познания; он протянул к ним руки и призвал их вернуться на прежний путь. Притихли простые жители Воддинга; притихли те, кто ожил в их воспоминаниях. В наступившей тишине было слышно, как за открытой дверью сверкающая на солнце мошкара поет свою песню. И Августа опять обрела надежду.