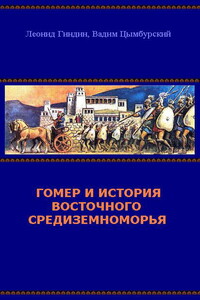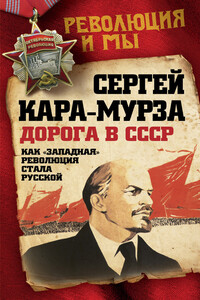С точки зрения восточного образа мышления и оборотов речи, мы прекрасно понимаем, что постановления для различных мелких случаев обычной жизни (напр. если бодливый бык убьёт человека или другого быка), запрещения кушаний, медицинские предписания относительно кожных болезней, определения жреческой одежды — установлены Иеговой; но это лишь внешняя форма выражения. Бог, для которого лучшая жертва — «дух сокрушённый, сердце сокрушённое и смиренное» — и которому не мог доставить удовольствия жертвенный культ, сходный с культом «языческих» народов (Пс. XXXIX, 7), наверно не мог выдумывать рецептов елея и ладана, как об этом говорится у Моисея (Исх. XXX, 26).
Будущим исследователям предстоит задача определить, что в израильских законах, гражданских и жреческих, специально еврейского и что общесемитического происхождения, а также в какой мере они заимствованы из гораздо более древнего и, конечно, проникшего за границы своей страны вавилонского законодательства. Вспомним, например, о праве возмездия — «око за око, зуб за зуб», о празднике новолуния, так называемых «хлебах предложения», о нагрудниках первосвященника и т. д.
Пока же мы должны быть благодарны, что в вавилонской ŝ’abattu «дне χατ’ εξοχηυ» удалось найти корни «дня субботнего», происхождение которого неясно для самих евреев. Никто не пытался утверждать, что 10 заповедей также заимствованы из Вавилона; наоборот, неоднократно указывалось, что некоторые заповеди, как напр, 5, 6, 7, продиктованы присущим всем людям инстинктом самосохранения. В самом деле, большая часть заповедей так же свято исполнялись в Вавилоне, как и у евреев: непочтение к родителям, лжесвидетельство, всякие посягательства на чужую собственность и по вавилонским обычаям наказывались весьма строго, по большей части смертью.
Рис.25. Гамураби получает законы от бога солнца
Так, например, мы читаем в третьем параграфе законов Гамураби: «Если кто–нибудь в тяжбе даст ложное свидетельское показание и не будет в состоянии доказать его, то он должен быть наказан смертью, если он своим показанием подвергал опасности жизнь человека».
Специально еврейской является лишь вторая заповедь, запрещающая идолопоклонство, которая при более близком рассмотрении, по–видимому, носит антивавилонский характер.
Что же касается первой израильской заповеди: «Я, Господь, Бог твой… Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим» (Исх. XX, 2–4), — то мы позволим себе здесь ещё раз остановиться на одном вопросе, который так глубоко затрагивает всех, интересующихся Библией и Вавилоном, — на вопросе о ветхозаветном монотеизме.
С точки зрения ветхозаветной теологии понятно, что она, отказавшись единодушно и вполне правильно от признания за ветхозаветными преданиями характера «вдохновения» в буквальном смысле и признав тем самым, быть может против воли, но вполне последовательно, полную неприемлемость подобного толкования ветхозаветных творений для нашей веры и знания, требует теперь признания духа, проникающего их, «божественным» и с всё большим единодушием проповедует «нравственный монотеизм изральтян», «дух пророчества», как «истинное откровение Бога живого!»
Большое смущение вызвали уже упомянутые нами раньше имена Бога, рисующие его как личность, и которые мы столь часто встречаем у переселившихся около 2500 г. до Р. Хр. в Вавилон северных кочевников–семитов: «Ель, т. е. Бог дал», «Бог правит», «Бог, воззри на меня», «Бог есть Бог», «Jahu (т. е. Иегова) есть Бог» и т. д.
Трудно понять, чем вызвана эта тревога. Казалось бы, раз даже в Ветхом Завете Аврааму, позволено проповедовать от имени Иеговы (Бытие XII, 8), раз Иегова был Богом Авраама, Исаака и Иакова, то такие древние имена, как Jahu–ilu, т. е. Иоель, должны быть встречены радостно. В особенности тем теологам, которые считают себя позитивистами и допускают, что «все божественные откровения развивались постепенно, историческим путём», становясь таким образом, по моему мнению, в противоречие с церковным учением об откровении, эти имена как раз бы должны быть очень удобны для подтверждения их теории.