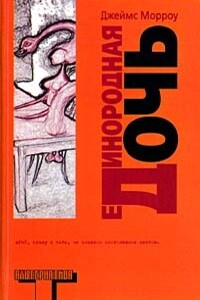— Гонке чего? — переспросил я.
— Вооружений. Товара, который еще никто не попытался изобрести, за что ты должен быть благодарен. Семь — «Не прелюбодействуй».
— А теперь ты выступишь в защиту супружеской неверности, — простонал я.
— Переоцененный грех, ты так не думаешь? Многие из наших величайших лидеров — прелюбодеи, так что же, прятать их по тюрьмам и лишаться гениев? Более того, если люди не смогут больше обращаться за сексуальным утешением к соседям, это закончится тем, что они пойдут к проституткам.
— Что такое проститутки?
— Не важно.
— Восемь: «Не кради». Не все учитывается, надо полагать?
Софист утвердительно кивнул.
— Восьмая заповедь все еще позволяет заниматься воровством при условии, что ты называешь это как-то иначе — законной прибылью, диалектическим материализмом, волей судьбы, да мало ли как. Поверь мне, брат, я без особого труда могу нарисовать себе будущее, в котором коренных жителей твоей страны — навахо, сиу, команчей и арапахос — сгоняют с их земель, и все же никто не посмеет назвать это воровством.
Я возмущенно фыркнул, то есть заискрился.
— Девять: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И снова умопомрачительная непоследовательность. Действительно ли осуждает тем самым Всемогущий мошенничество и обман безоговорочно? Помяни мои слова, это правило молчаливо благословляет мириады негодяев — политиков, рекламодателей, магнатов-промышленников, загрязняющих окружающую среду.
Мне хотелось пробить железную грудь робота своей стальной дланью.
— Да ты законченный параноик.
— И наконец, десятая: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».
— Вот именно — не желай. Это остановит жадность, которой ты боишься.
— Давай рассмотрим здесь сам язык. Очевидно, что Бог адресует этот свод правил патриарху, который, в свою очередь, распространит его среди менее могущественных, а именно жен и слуг. И сколько времени пройдет, прежде чем эти слуги будут низведены еще ниже… в рабов, например? Целых десять заповедей, и ни единого слова против рабства, не говоря уже о расизме, женоненавистничестве или войне.
— Меня тошнит от твоей софистики.
— Тебя тошнит от моих истин.
— Что такое рабство? — спрашиваю я. — Что такое война?
Но Сын Ржавчины уже растаял в тени.
Падая, я вижу себя стоящим у завернутых скрижалей, две дюжины голографических камер уткнулись линзами мне в лицо, сотня бесцеремонных микрофонов застыла в готовности схватить каждый слог Закона.
— Не сотвори себе кумира, — возвещаю я миру.
Тысяча человеческих существ пристально смотрят на меня с застывшими, безрадостными улыбками. И чувствуют себя чрезвычайно неловко. Они ожидали чего-то другого.
Я не заканчиваю чтения заповедей. Останавливаюсь на «Не произноси имени Яхве, Бога твоего, напрасно». Подобно фокуснику, срывающему шарф с клетки, наполненной голубями, я сдергиваю бархатное покрывало. Хватая скрижаль, я переламываю ее пополам, словно огромное печенье с предсказанием.
Толпа дружно ахает.
— Нет! — вскрикивает кардинал Вурц.
— Эти правила не для вас! — кричу я, опуская стальные пальцы на вторую плиту, и та раскалывается посредине.
— Дай нам прочесть их! — упрашивает архиепископ Марканд.
— Пожалуйста, — умоляет епископ Блэк.
— Мы должны знать! — настаивает кардинал Фремонт.
Я подбираю продолговатые половинки гранита. Толпа устремляется ко мне. Кардинал Вурц кидается за Законом.
Я поворачиваюсь. Спотыкаюсь. Сын Ржавчины смеется.
Падая, я прижимаю куски к груди. Это будет не обычным измельчением, не простым разъединением по границам молекул.
Падая, я сокрушаю саму суть Закона, перемалывая, стирая в порошок, превращая доханаанские слова в песок.
Падая, я отщепляю атом от атома, одну элементарную частицу от другой.
Падая, я встречаю темные воды Делавэра и исчезаю в ее глубинах, и я очень, очень счастлив.