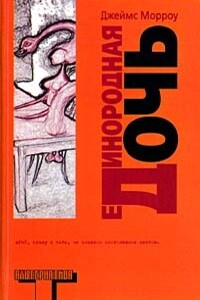— Как это? — изумилась Полли.
— Мы — это канарейка Зенобии, — сказал Аса.
Мы поцеловали сына и вышли из комнаты, закрыв за собой дверь. Коридор был оклеен его сокровищами — плакатами «Мисс Свинс в президенты», портретами рок-звезд и рекламными листками со сценками из апокалиптических фильмов, которые мы регулярно брали напрокат в видеосалоне Джейка: «Бег в молчании», «Зеленое безмолвие», «Лягушки»…
— Мы — канарейка Зенобии, — задумчиво произнесла Полли.
— Неужели уже слишком поздно? — спросил я.
Моя жена ничего не ответила.
Остальное вы слышали. Как доктор Бореалис познакомился с кем-то, кто знал еще кого-то там, и вдруг мы увидели сенатора Каракалла по каналу, демонстрирующему заседания конгресса, и он зачитывает последние двенадцать номеров «Назад к Земле», всю историю того года, который Зенобия провела с нами.
Помните, что сказал президент Тейт газетчикам в тот день, когда подписал законопроект о сохранении окружающей среды, сделав его законом?
— Иногда все, что нужно, так это притча к месту, — заявил он.
«Иногда все, что нужно, это правильная метафора», — сообщила нам верховная исполнительная власть. Земля — это не наша мать. Совсем наоборот.
Однако в ту особенную ночь, стоя у комнаты Асы, Полли и я не думали о метафорах. Просто нам очень хотелось, чтобы Зенобия вернулась. Мы ведь совсем неплохие родители, я и Полли. Взгляните на наших детишек.
Подмигнув друг другу, мы на цыпочках прокрались по коридору и забрались в кровать. Прижавшись друг к другу, мы громко рассмеялись. Мне всегда нравился запах моей жены; она пахла как большой роскошный гриб, на который натыкаешься в лесу лет в шесть, такой сладкий на вид, но сырой и запретный. Мы прижимались друг к другу все крепче и крепче, и нам становилось все жарче и слаще. Мы надеялись, что у нас родится еще одна девочка.
Известен лишь Богу и Уилбуру Хайнсу
Мой страж обращен лицом на восток, его взгляд скользит над верхушками деревьев и через Арлингтонское национальное кладбище обращается к зеркальной поверхности Потомака. А штык вздымается в утреннее небо, чтобы проткнуть солнце, не иначе. В уме он отсчитывает секунды, по одной на каждую выброшенную гильзу в салюте из двадцати одного винтовочного выстрела.
В том, чтобы быть мертвым, есть свои преимущества. Верно, моя забальзамированная плоть заперта в этом холодном мраморном ящике, но мои чувства свободно парят, словно спутники на орбите, посылающие на Землю ее собственные снимки. Я вижу город, изобилующий черными гражданами и белым мрамором. Ощущаю запах виргинского воздуха, сочной травы, морской пены. Слышу звуки сапог моего стража, когда тот разворачивается на юг, эхо его каблуков, щелкающих друг о друга: два щелчка, всегда два, словно телеграфист, вечно выстукивающий букву «и».
Мой страж притворяется, что не замечает толпу — пятиклассников, ротарианцев, садоводов-любителей, неорганизованных туристов. Время от времени ему в глаза бросается ярко-желтый шейный платок бойскаута младшей группы или розовый гребень панка. «Известен лишь Богу» — гласит надпись на моей могиле. Неправда, потому что известен я и самому себе. Я отлично помню Уилбура Симптона Хайнса.
Тук-тук-тук, это «спрингфилд» моего стража, перекладываемый с левого плеча на правое. Тот останавливается, еще раз двадцать одна секунда, затем чеканит двадцать один шаг на юг по узкой черной дорожке, защищая меня от общества «Золотой возраст» из Бетесды и клуба «Глен Эко Лайонс».
В армию я пошел, чтобы узнать, как убить своего отца. По иронии судьбы в глазах старика искорка удовлетворения блеснула единственный раз, когда я объявил, что бросаю колледж и поступаю на военную службу. Он думал, что я жажду защищать демократию во всем мире, хотя на самом деле я хотел избавить мир именно от него. Я намеревался записаться под вымышленным именем. Научиться обращаться с винтовкой. Затем однажды ночью, когда отец будет мирно спать, я ускользнул бы с самоподготовки, приставил дуло к его башке — голове Гарри Хайнса, вспыльчивого пенсильванского фермера, бившего меня своей суковатой палкой, пока спина моя не чернела от заноз, — вышиб бы ему мозги и отправил его прямо в преисподнюю. Видите, сколь неразумен я был в те годы? Могила меня исправила. Нет лучшего лекарства, чем этот ящик, лучшего лечения, чем смерть.