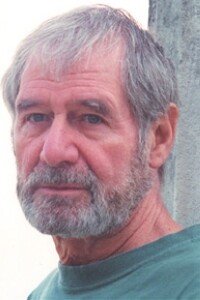— Ты что, оглох? Убирайся вон! Вон, пока я не…
Его глаза ожили. Заблестели. В них сверкнули искры. Вспыхнул огонь. Я сделал над собой усилие. Собрав всю свою волю, стряхнул оцепенение. Двинулся к выходу. Уже на пороге обернулся, и черт меня дернул поблагодарить дядю такими словами:
— Спасибо, дорогой дядюшка. Буду молить бога, чтобы он послал вам больше удачи, чем до сих пор.
Не успел я и рта закрыть, как кружка, которую дядя держал в руке, со свистом пролетела мимо моего уха и трахнулась о камни мостовой. Совсем немного, и она угодила бы мне в голову. Я улыбнулся, подумав: ну и везет! Еще чуть-чуть, и красоваться бы мне с проломленным черепом. Только этого не хватало: щеголять с повязкой на голове, чтобы все показывали на меня пальцем.
Радуясь тому, как дешево отделался, я крепко обругал дядю и пустился наутек. Дядя ринулся за мной следом и с порога трактира провожал меня криками:
— Чтоб тебе сдохнуть!
Улица была по-прежнему пустынна. Я не счел нужным останавливаться, оборачиваться и отвечать ему. Прихрамывая, побрел по направлению к городскому саду — отдохнуть в тени на скамейке.
О читатель! Как жаль, что ты не знаешь города на реке Веде, который я пытаюсь теперь изобразить! И больше всего жаль, что ты не знал его в те годы, когда там погибала моя молодость. Ты бы никогда не смог забыть его, как не забыл его я.
После долгой и тяжелой войны с немцем он остался стоять на своем месте. Только люди казались мне теперь иными. Все, кого я знал в лицо и по имени, постарели. Из окрестных сел понаехало много новых жителей. Вместо тех, кто умер и переселился на кладбище под откосом, примирившись с судьбой и не тревожась о доходах, центр города заполнили торговцы из предместий, нажившиеся за войну на кражах и спекуляциях и теперь вошедшие в силу.
Колокол надрывается,
Мир вокруг меняется.
Колокол молчит,
Мир на месте не стоит.
Хотим мы того или нет, мир на земле или война, — время делает свое дело, жизнь по всей земле меняется непрерывно. Только недалекие люди не замечают этого.
Я тоже изменился — и весьма ощутимо — с тех пор, как отправился из Руши-де-Веде в чужие края, чтобы заработать на хлеб да набраться ума-разума. Минувшие годы оставили неизгладимый отпечаток не только на всем окружающем, но и на мне самом. За это время я хлебнул горя, повзрослел. Превратился в долговязого подростка, тощего и тонкого, как жердь. Лицо мое, на котором навсегда застыла печаль или ее тень, осталось таким же угреватым, как прежде. Очень удручало меня, что с возрастом все чувствительнее давала себя знать моя давняя болезнь. Мне становилось все труднее передвигать ногу; нежданная хворь, поразившая меня несколько лет назад, превратила меня в хромого калеку. В хорошую погоду выпадали такие дни и ночи, когда мне казалось, что больной ноги уже нет, что она уже не часть моего тела. Нога висела странным чужеродным придатком, вялая и похолодевшая. Лишь в непогоду я вновь чувствовал ее. Но тогда она начинала болеть. С болью плоти и костей я уже свыкся и замечал ее лишь тогда, когда она становилась особенно острой. В остальное время я мог колоть дрова, копать землю, таскать мешки, работать молотом, писать, читать, давать уроки или учиться, не очень с ней считаясь. Судьба отметила меня тяжким крестом. Этот проклятый крест я должен был нести до конца дней своих и еще радоваться, что дешево отделался, потеряв, да и то не целиком, только одну ногу.
Бредя потихоньку вдоль обшарпанных лавок на Большой улице, я поравнялся с магазином «У Ангела». Вспомнил с горечью, что в свое время мне пришлось несколько месяцев служить и в этой затхлой лавчонке, где за наличные и в долг продавали свечи и ладан, обувь на картонной подошве, дешевую саржу, грубо скроенную и плохо сшитую одежду для покойников, а также гробы на любой рост. Теперь во всем царила иная мода. Даже дешевенькая одежка покойников изменила свой покрой. Изменился фасон ботинок и туфель. Только гробы сохранили прежнюю форму: длинные, узкие в ногах и широкие в изголовье, со слегка выгнутой крышкой. Меня вдруг разобрал глупый, беспричинный смех. Эта дурная привычка у меня с тех пор, как я себя помню. Ну разве не смешно, что человек, который всю жизнь мечется, хлопочет ради чего-то, которому и всей земли-то кажется мало, после смерти довольствуется вечным заключением меж четырех жалких досок!