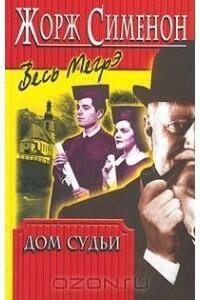— Держи.
Когда ели, сказал как решенное:
— Ты сегодня или завтра, Никишин, поезжай в паспортный стол и узнай, кто за последние две недели из Красногвардейска выписался. Помнишь, Файка сказала, что прощались, уезжали совсем. Может, правда. А может, один уезжал, другой провожал. Черт их знает! Аптекарша другое приметила: один вещмешок. Вишь, как все выходит? Ежели хоть один уезжал, так мы его через паспортный стол все одно определим. Значит, и другого. Так что двигай… А я тут еще попробую сам.
— Поеду сегодня, — согласился Никишин.
— А я с утра загляну в больницу. Анну-то мы совсем обошли…
Анна Червякова лежала в больнице четвертый день, а испуг у нее не прошел. Ефим Афанасьев заметил это сразу, как только увидел ее в палате: Анна смотрела на него широко распахнутыми глазами, в ее взгляде смешалось все: и страх, и смятение, и беспомощность. Разговаривала она с Афанасьевым неохотно, видно, не веря в его помощь. И как ни подступался к ней участковый, на все отвечала односложно:
— Ничего не знаю. Выстрелили, пала я, а видеть никого не видела. Я и взглянуть-то не успела…
Так и ушел Афанасьев ни с чем.
Все эти дни он много думал о случившемся. Его добродушие и немногословность окружающие часто принимали за невозмутимое спокойствие.
И только одна жена знала, как ворочается он ночами с боку на бок, мучаясь бессонницей и какими-то своими мыслями, о которых она привыкла не спрашивать.
И уж совсем никто не мог догадаться, что во всем, что произошло в доме Червяковых,
Ефим Афанасьев винил себя. Отсюда, из Красногвардейска, он уходил когда-то в армию. После службы за границей истосковался по дому. Когда вернулся, райком комсомола даже отдохнуть не дал, направил на работу в милицию. До сих пор работалось, можно сказать, легко. Потому что кругом были свои, с детства знакомые люди. Ефиму даже казалось, что именно из-за того, что в Красногвардейске участковый уполномоченный он, Ефим Афанасьев, здесь никакого преступления серьезного и случиться не может, так как не заслужил он такой обиды. Да и знал он всех настолько, что и в мыслях допустить не мог, как это от него можно плохое скрыть. Сам он взыскивать с людей не любил, от всякой дури старался просто удержать. А перед праздниками заходил в магазин и отдавал продавщице список: кому не следует продавать в эти дни больше чем пол-литра. Добавлял при этом:
— А коли ругаться начнут да просить жалобную книгу, то по такому поводу ее не выдавать. Нечего пьяниц до чистой бумаги допускать. За разъяснениями ко мне присылайте, даже на дом можно. Так и говорите, что я велел.
И вдруг — грабеж, да еще с применением оружия!
Только сейчас и понял, где промахнулся. Пять лет уже работал участковым, на всех совещаниях только одни похвалы слышал, в прошлом году звание офицерское присвоили. И все эти годы полагался только на своих, коренных красногвардейских. А сколько в последнее время новых людей понаехало! И не только специалистов да рабочих кадровых, но и тех, с кривой душой, которые болтаются по белому свету без всякого смысла. Знал ведь об этом! А что мог о них сказать? Ничего. И получилось, что оторвался от жизни. Вот где собака-то зарыта!..
…В поселковой столовой сказали, что Катька-буфетчица работала вчера, а сегодня отдыхает.
Поглядел на часы. Время двигалось к полудню. Решил сходить к Катьке домой, хоть и далеко да и не больно хотелось. Такая она уж была Катька: с другой женщиной мужчина пройдет рядом — и никто слова не скажет, а кто возле Катьки побыл — всякое доверие теряет. И все равно мужики возле нее вертятся. А она только похохатывает.
И Афанасьеву дверь она открыла широко, забелела зубами в улыбке, словно ждала:
— Проходите. Вот так гость!
— Не ждала, что ли? — тоже улыбнулся он.
— Я сроду никого не жду. Ко мне сами ходят. А ты испугал. — И хохотнула весело.
— Вот и я сам пришел.
— Вина не прихватил? — пошутила.
— В такую-то рань?
— Сегодня можно: все равно же завтра воскресенье!
— Ладно, — сказал Афанасьев. — Знаю, что женщина ты веселая, гостей любишь, а я — по делу, Хотел кавалером одним твоим поинтересоваться…
— Которым? — прыснула она.

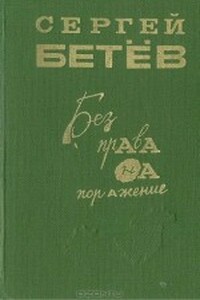
![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 9 [сборник]](/uploads/books/images/66/669e677c3840e37f130f6b5c3f11e9adef03d3f3.jpg)