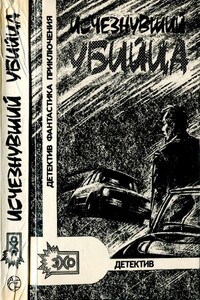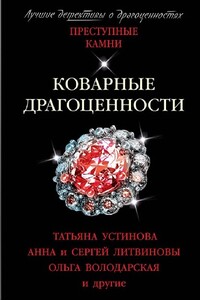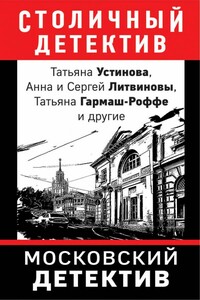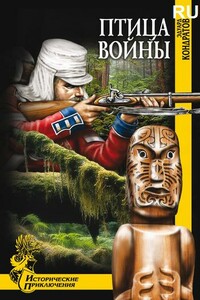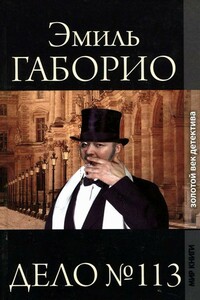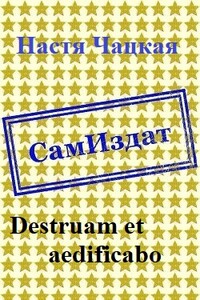Солуянова он едва признал. Травяного цвета роба, тяжелые ботинки. Косолапил, как медведь, среди рабочих. Он отозвал его. Пошли рядом.
— Живется-можется? — спросил Семен. Щелкнул зажигалкой и прикурил тонкую сигарету.
— Обхождение — по первому классу. И все такое прочее. Удружил!..
— Цени! Ну а на хлеб-масло дают?
— Лопатить надо. Перекурим, тачки смажем, трап наладим — и домой! Слыхал про такое? Не работа — принудиловка! Совесть во мне кипит!
— А тебя, Фимка, перековали! — удивленно протянул Семен. — На побочный заработок не тянет? Тут — на хлеб, там — на масло.
— И окно в клетку! Здравствуй, параша!.. Эх ты, Чабан!..
— Ну, лады. Будь святым, Фимка. Помоги в одном деле. Друг собрался в Ташкент. Прямых не оказалось, взял билет до Москвы, а оттуда — самолетом. Бог полагает, черт располагает. Телеграмма: мать в деревне при смерти!.. Загони билет, будь молотком! Мне на сыгровку — никак не могу сам.
— Велико дело! — Фимка цвиркнул слюну сквозь редкие зубы, положил билет в карман. — За расчетом сам придешь? Давай! До встречи, Сень!..
«Чего в такую даль перся? — запоздало удивился Фимка. — У Томки же вокзал под боком!». Собрался спросить, но Семен уж скрылся за домами.
Они шли по улице Льва Толстого. Жилистый, заметно сутулившийся, длинноногий Бардышев и медлительный, со зрелой тучностью — Жуков. Погода располагала к неторопливости: прохладный ветерок от Волги, шелест под ногами опавших листьев, редкие прохожие, одиночные автомашины...
— Нравится служба, Владимир Львович? — Жуков присматривался к Бардышеву не первый год и все не мог утвердиться во мнении. Грамотный, имеет чутье на розыск, а срывы и промахи до обидного часты.
— Познаю, Евгений Васильевич... Сличаю со своим принципом... И поражаюсь!..
— Чем же, если не секрет?..
— Нравственной стороной. Вот билеты. Допустим, что тут не оплошность, а умысел. Кто-то обманул старушку. Сумма, подделка, мошенничество — для меня все это второе дело, если хотите. — Бардышев увлекся рассуждениями, опережал Жукова, останавливался, жестикулировал вольно, подергивал очки на переносице. — Обманули человека! Она думает теперь обо всех — верить нельзя!.. Вот вред наипервейший! Под корень наш кодекс: человек человеку друг и брат!.. >v
— Ты сколько в милиции?.. Три года? А я — двадцать пять!.. Ты заметил темноту в обществе. В смысле гадкого больше, чем нам хотелось бы... Много дерьма — тут ты прав. Но я верующий, Владимир Львович. Чистых людей больше — в том моя вера!.. Тут важно уберечь глаз. В дерьме глаз привыкает к темноте — вот закавыка. Ох как опасно это в нашей службе, Володя!..
— Размышляю, товарищ майор... Уже почти все наши люди рождены при Советской власти, откуда что вылезает?.. Откуда обман? Откуда бандит? Откуда жулик? Откуда вор и хапуга?..
— Накипь все это, Володя. Котел работает, пока нет накипи. Потом перестает греть — чистить надобно! Отец у меня всю жизнь в котельщиках проходил. В здешнем паровозном депо.
— Надо ж!.. А у меня — механиком на пароходе. Так они антинакипин применяли. — Бардышев заразительно рассмеялся. — Как-то напился из котла — штанишки не успевал сдергивать! Мать черникой едва утихомирила живот мой...
Они расстались у ворот стадиона «Динамо». Жуков — на Арцыбушевскую, а Владимир Львович — на троллейбус, к речному вокзалу.
Стоял Фимка у земляного холмика. Крест с краю. Под сырыми пластами покоилась давшая ему жизнь. Тишина вокруг. Созревшие гроздья рябины оттянули тонкие ветки вниз, красными комками виделись на дереве. Солнце заходное пригревало спину. Склонив голову и всхлипывая, рядом шептала что-то соседка по прежней квартире, седая женщина в темном платке. «В сухом месте положили маму, — думал Фимка. — Попрошу ребят, чтобы из арматурного прутка сварили оградку. Крест покрасить. Скамейку вкопать. Чтобы по-хорошему, как у людей...».
— Спасибо, соседка, хорошее место выбрали мамке... — Он принялся подправлять углы холмика, обтоптанные неуклюжей ногой.
— В жизни ей не фартило... — Женщина вытерла слезы и повернула на место бумажный венок, скосившийся на могиле. Раскрошила яйцо. Хлебный мякиш рассыпала...