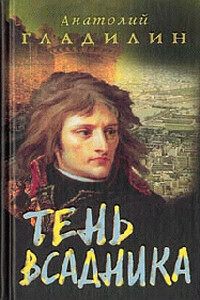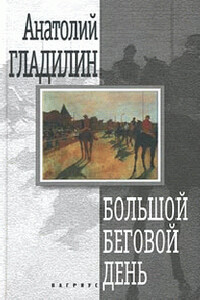С Хреновым мы давно работали. Это был очень опытный и очень властный начальник. И характер у него был железный. Бросать вызов Хренову — дело очень рискованное. Конечно, мы могли победить, но могли и сломать себе шею.
Половину ночи я провел у Наташи, половину ночи шлялся по Москве. Я наблюдал восход солнца с Каменного моста, потом вздремнул на скамейке на Гоголевском бульваре, потом подписывал бумаги, потом позвонил домой, чтобы сказать какую-то нелепую ложь. И я все время думал, как же моя жизнь пойдет дальше? И в то же время предчувствовал, что все уже давно решено. И меня знобило, как утром на скамейке Гоголевского бульвара, а секретарша Верочка с ногами, перекрещенными, как две сабли, ослепляла меня своей улыбкой. И вообще было много солнца. Солнечные зайчики танцевали на стенах, на моем лице. Редькин кончил доклад. Все откашлялись, поерзали на своих стульях, застыли.
Наступала моя очередь.
* * *
Отработав смену в бане, я помылся, переоделся и вышел на улицу. Я шел с четкой целью, я знал, что мне надо, я хотел просто положить конец этому беспокойному существованию. Хватит ломать себе голову над загадками своей прошлой жизни. Пора становиться обыкновенным покойником — живым или мертвым, это совершенно неважно.
Я взял такси и поехал в крематорий. Но вход на кладбище был уже закрыт. Сторож ни за что не хотел меня пускать. Я его пытался просить, убеждать, но все было напрасно.
— Куда вы спешите? Успеете! Что вы торопитесь? Приходите завтра, не бойтесь, на кладбище никогда не поздно...
У всех сторожей склонность к философии! Пройдя вдоль кладбищенской стены, я нашел удобное место и, оглянувшись, когда не было прохожих, перелез через стену. На надгробных плитах лежал тонкий слой снега. Черные надгробные камни стояли, как вымершие дома. Ветки деревьев застыли в ледяном панцире, и лишь изредка далекий звонок трамвая нарушал тишину.
Я быстро нашел знакомую аллею. Где-то здесь лежит та надгробная плита, под которой покоится прах моей матери. Я прошел мимо могильных плит, мимо пирамид, увенчанных звездой, мимо каменных крестов. Вот она, эта могила. Я зажег спичку. Под старой надписью появилась новая, выбитая крупными буквами: «Сергеев Николай Александрович. Август 1908 — декабрь 1956».
С минуту я стоял молча, а потом пошел по снежным аллеям в сторону черного здания крематория. И пока я шел мимо памятников чужим жизням, я как бы проходил мимо памятных дней своей жизни.
Да, Сашка Пахомов поехал вместо меня в Березки, и там его убили. А я остался жить, но все равно что-то, видимо, тогда со мной случилось, и я медленно начал умирать. Васька Лазутин сел в мой самолет и разбился. Нет судьбы, есть только арифметика, просчет вариантов. Два раза смерть проходила мимо меня. Один раз она блокировала шасси моего самолета, второй раз она подкралась в кабину управления. Я почему-то испугался в тот день совершать очередной полет, и вместо меня мой самолет повел Васька Лазутин. Да, он погиб, а я остался жив, но опять же, какая-то часть моей жизни ушла. Да, я прошел тот легендарный «голубой поход», в котором я регулярно участвовал в разведках, но наступил момент, когда я почувствовал — хватит, я больше не могу. И вместо меня в разведку ушел Борька Макаров. Ушел и не вернулся. А я жил, я умел просчитывать варианты. Я не смог начать новую жизнь с Наташей — еще бы, к тому времени я превратился в осторожного, равнодушного человека.
Но почему? Где я совершил ошибку, где я просчитался?
Около котельной крематория я нашел кусок угля и вернулся к своей могиле. В конце концов, сейчас все это было неважно. Я определил день своей действительной смерти. Я вытер иней с надгробной плиты и исправил дату: с 1956 года на 1950-й. Да, это произошло в майский день пятидесятого года, в тот момент, когда наступила моя очередь делать содоклад на коллегии управления. И пока я перебирал страницы своей экспертизы, мне стало ясно, что у меня нет сил бороться против Хренова. Черт с ними со всеми! Хрен редьки не слаще! Мне плевать на все! Я хотел просто спокойствия.
Итак, я выступил против Редькина, и я сделал это умело и элегантно, я отдал должное смелым мыслям докладчика, но подчеркнул его торопливость и некомпетентность, и члены коллегии потом все хвалили меня за обстоятельный разбор. Обсуждение проекта принесло мне личный триумф.