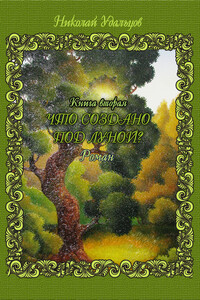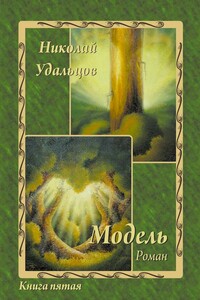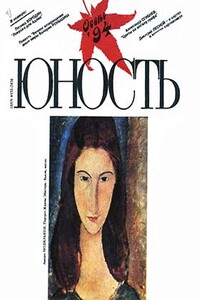– Кто же этот мерзавец? Посмотреть бы на него, да шею свернуть, – пробурчал Вакула, понимая, что злость эта не очеловеченная, абстрактная.
– Это я, – тихо сказал Игорь Дмитриев, молчавший до сих пор, – Дружил я с Облинским, вот и привез к нему земляка.
– Да как же ты, парень, сволочь эту пригрел?
– Если б знать, кто сволочь, так и жизнь была бы другой…
– И на что покусился-то, убивец? На два рыбьих хвоста? – махнул рукой Заместитель председателя Воркутинского охотсоюза, – Что у человека в тундре может быть ценного?
– У него деньги были. И пестчины на трехмесячный план.
– Откуда у промысловика деньги в тундре?
– Я дал, – сказал Юрий Михайлович Ананьев.
– Да, зачем?
– Мы с Вакулой на Андерму шли. Взяли от Ильи с собой два десятка шкур, чтобы там, в военном городке, скинуть. А деньги ему за все пушки оставили. По новым ценам.
Если б мы в Адерме застряли, а его вертак какой забрал бы, деньги ему в городе пришлись бы к месту.
– Значит, и шкуры у него были, и деньги.
– Все у него было…
– И что же не вычислила милиция гада этого?
– А что его вычислять?
Это в городе в каждом подъезде ухорон мерзавцу. А в тундре не спрячешься.
Один труп, один след. «Буран» исчез. Так, что убийцу определить легко было.
Только пропал он, – Ананьев закурил новую папиросу, – Мне в милиции сказали, что билет он брал до Москвы. Только в Москве он не появился.
Скрылся подонок.
– Не скрылся, – тихо проговорил молчавший до того Зосима. И все сразу ощутили, какие в этой избушке темные углы, – В Кожиме он слез. На золото его потянуло. Слух там был, что бродил один москвич, что золото скупал.
– Значит, ходит где-то по земле, кровятник.
– Уже не ходит.
– Как это?
– А так. Волк его задрал.
– Кто это видел, Зосима?
– Я…
В избушке наступила тишина.
Каждый из тех, кто был знаком с Ильей Облинским, задумался, почувствовав мистическое прикосновение.
– Ты о чем думаешь, Юра?
– О том же, о чем и ты, Вакула, о волке.
– Ага, – прошептал Вакула, – И я тоже…
– Может, не тот это москвич был?
– Может и не тот. Только много ли здесь москвичей?
– А ты приметы на нем не заметил какой?
– Какие приметы на разодранном?
Правда, крестик на нем был, без фигурки Христовой. Отвалилась, поди, где-то. Хотя, может это и не тот москвич. Мы ведь даже фамилии его не помним.
– Тот! – пять пар глаз устремились на Андрея Каверина, сидевшего у стены, прямо под керосиновой лампой, до поры слушавшего других молча, – Тот.
Звали его Альберт Фронтов. Или, попросту, Алик-франт.
– Ты, что, его знаешь?
– Я его искал.
– Зачем?
– Чтобы убить…
Из ипостасей всех словосочетаний, слова: чтобы убить! – самые голодные. Потому, что они пожирают вокруг все.
– Ты словами-то не бросайся, – проговорил Ананьев, делая ударение на каждом звуке, – Трупов на эти квадратные метры хватит.
Вакула откинул взгляд на свое ружье, стоявшее в углу. Дмитриев рефлекторно толи сжал кулаки, толи просто подобрал пальцы. Давид Яковлевич внимательно посмотрел в глаза Каверина и опустил свои. Того, что Зосима, в своем темном углу, положил руку на эфес ножа, никто не разглядел.
– А за что ты хотел его убить? – спросил Игорь Дмитриев. И этот самый не простой, но очевидный вопрос снял напряжение.
Какое может быть напряжение, если задаются очевидные вопросы.
– За то, что он считал, что можно платить любую цену чужим счастьем…
– Расскажи-ка по подробней. Хотя мы все пришли из разной жизни, здесь мы все не чужие…
Пока Каверин рассказывал, о себе, о генерале Фронтове, о его жене Ирине, о том, что сделал с ней Алик, о том, как он, Андрей, избил Алика, и о том, как от его удара фигурка Христа отлетела от самого мистического пересечения вертикали с горизонталью, стояла тишина.
Замолчал даже ветер, который причастной ответственности соучастника не нес. Максимум на что он мог претендовать, это роль очевидца…
– …Я шел для того, чтобы убить его.
Хоть и понимал, что я не суд, но я шел для того, чтобы стать и судьей, и палачом.
И это должен был быть человеческий, а не волчий поступок.
– Человек должен выполнять человеческий законы. А человечество создало закон – презумпцию невиновности, – проговорил Ананьев, – В какой-то степени, я все-таки ученый.