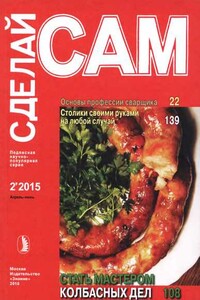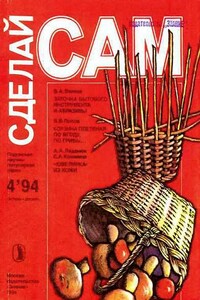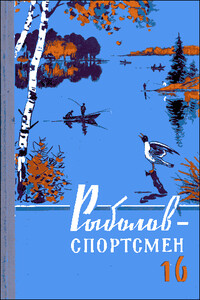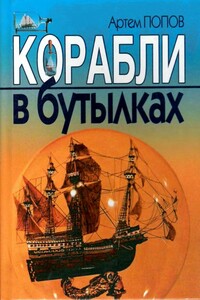— Неспроста сегодня такой интерес ко всему живому, народному, целебному и полезному. Например, сейчас модно дома носить лапти. Вы ведь тоже можете их изготавливать?
— У нас в Пермском крае лапти делались из бересты, их носили в два раза дольше, чем лыковые, минимум до месяца. Они стоили в два раза дороже и были в свое время эдакой гламурной штучкой.
Польза лаптей очевидна — лёгкость, массаж стопы, сухость ноги, простота изготовления. Даже если ноги вымокли, они быстро высыхают. Носили лапти не только летом, но и с онучами, шерстяными носками зимой.
— Если представить, что изобретения цивилизации исчезнут, то лапти и туеса точно останутся?
— Давайте промоделируем… Тогда исчезнет часть культуры, но в любом случае, по направлению природному человечество найдет те материалы, которые будут диктовать технологии, в помощью которых будут изобретать, прежде всего, функциональные вещи, а это одежда, обувь, предметы быта, орудия труда и т. д.
— Как вы пришли к своему мастерству, наверняка ведь не с детских лет обучались народному искусству?
— Почти в сорок лет я встретил учителя, который мне передал своё мастерство. Если бы мы не встретились, то вместе с ним ушло бы и это искусство. А представьте, если бы не было Хохломы, некоего культурного явления для России? Иссякнет культурная река мира. Ведь в мировую культуру мы приходим с чем-то своим, некими эндемиками малыми, которыми владеют буквально десятки людей. Пермская береста является культурным эндемиком Урала. А, к примеру, о Семикаракурском фаянсе, редчайшем искусстве казачества, возникшем под влиянием украинцев, мало кто знает.
— А как появляется промысел?
— Все изначально идет от личности, дальше — движение мысли, движения рук, умения, знания и т. д.
Крестьянин Иван Козлов основал шамагодскую прорезную бересту, север Костромской и юг Архангельской области. Он перенес технологию ростовского просвечного железа на бересту. Появились замечательные рисунки, которые стали украшать туеса прорезной берестой. Пошла проверка рынком — всем стало нравиться, стали покупать больше, нежели у кого-то другого.
— Удавалось ли вам в своем творчестве восстанавливать потерянные со временем старинные технологии?
— Приведу характерный пример восстановления утерянного искусства. В музеях сохранились корчаги, обмотанные берестой, но словно политые смолой. Как это было сделано? На восстановление утерянных знаний ушел не один год. Искали везде — в старинных книгах, в интернете, нигде не могли найти. Какой-то дед вспомнил, что его матушка во время Гражданской войны в бане с берестой чего-то делала, ага! Значит, необходима температура и влажность. Поехали дальше и докопались до истины. Оказалось, что при варке берестяных лент в смеси воды и масла, в зависимости от толщины бересты и ее качества, от получаса по полутора часов, береста становится тянучая, как изолента. И пока она горячая нужно мотать ее по изделию. Заканчивается один слой, берёшь другой. И еще этот процесс обмотки имеет сакральное значение. У нас на Северах берестой крестили посуду — ручку ножа, рукоятку молотка.
— Есть ли у вас ученики?
— Подготовленных учеников у меня шесть человек. Но мастерство — это проблематика выбора жизни. Это вектор. Передать мастерство — особых проблем нет. Но что ты выбираешь? Слава, деньги? Есть три позиции бытования в мире. Последняя верхняя позиция — удовольствие. И пока идешь к этой цели, пока растешь, пока узнаешь что-то новое — ты живой, когда сказал себе, что бы достиг удовольствия — ты умираешь.
— Ваше мастерство строго индивидуально или вы можете вступать в союзы с другими художниками?
— Сейчас участвуем в большом проекте сотворчества, делаем крупные объекты из бересты и можжевельника. Участвуют Печворк, Вологодские кружева и я, как берестянщик. К нам присоединяются кузнецы, керамисты, камнерезы.
— Желаем вам своим творчеством и дальше приносить радость и пользу людям!
Знаетели вы что:
дёготь, получаемый из бересты, использовался для защиты кожи, прежде всего обуви (сапог), и как колёсная смазка. В странах, куда экспортировался, деготь известен как «русское масло». Получается он при пиролизе в горшках-ретортах. По внешнему виду — это густая, маслянистая неклейкая жидкость чёрного цвета, с голубовато-зеленоватым или зеленовато-синим отливом в отражённом свете, со специфическим нерезким запахом и острым вкусом.