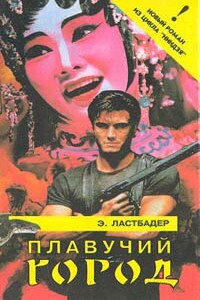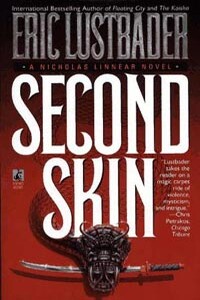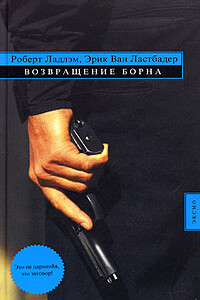Вот чего желает его сердце, и он пытается схватить и удержать дух своей умершей дочери и изучить короткие дни ее жизни с таким же вниманием и самозабвением, с которым он наблюдал за сокращениями ее медленно бьющегося сердца. Собрать эти дни, как нежные лепестки опавшей сакуры, и узнать, что вселяло в нее силу, что заставляло плакать и смеяться.
Но ведь это невозможно. Даже сейчас, когда он, как бог, плыл в пространстве-времени, ее дни прошли сквозь его дрожащие пальцы, как песок, и отлетели в сердце пустыни. И вот наконец, имея свидетелем только себя самого, он смог сделать то, что был не в состоянии делать все эти долгие три года.
Он заплакал, и горькие слезы по увядшей дочери все лились и лились...
Он очнулся, ощущая вокруг себя такую ослепительную белизну, будто вокруг были клубы белого тумана, сквозь который он сейчас начнет опять падать, как камень в бездонный колодец. И кровь его застыла в жилах, и закричал он так страшно, что медсестры со всех ног бросились к нему, поскрипывая по натертому линолеуму пола своими туфельками с резиновой подошвой. От этого крика проснулась Жюстина, которая уснула у его кровати, держа мужа за руку. Подсознательно она держала руку Николаса так, чтобы ее большой палец касался его пульса: так она держала руку обреченной дочери, прислушиваясь к слабым сокращениям тоненькой голубой вены, по которой все медленнее и медленнее текла кровь.
Медсестры отстранили Жюстину не то чтобы с враждебностью, но с холодным безразличием, порожденным их опытом и компетентностью, а это выносить еще труднее, чем враждебность, потому что она заставляет вас чувствовать, насколько бесполезно ваше присутствие в палате больного.
Николас в своем неистовстве сорвал с себя трубочки капельницы. Сестры клохтали над ним, полушепотом уговаривая его по-японски, на языке, которым Жюстина за эти три года смогла овладеть только на элементарном уровне. Она почувствовала какую-то враждебность к этим молодым японочкам, которые все эти дни мыли его, брили, следили за его стулом.
Она стояла за ними, на голову выше любой из них, и смотрела с высоты своего роста, что они там делают с Николасом, до безумия боясь, что случилось что-то непоправимое, а ее роль сведена к пассивному и беспомощному наблюдению.
А что, если он умрет? Она судорожно схватилась руками за плечи, и все внутри у нее похолодело. Стояла зима. Земля покрыта снегом. И она постоянно мерзла. Даже здесь она была в пальто, хотя в больничной палате вполне тепло.
Великий Боже, спаси и помилуй, молилась она. Жюстина не была религиозной, никогда не задумывалась о том, верит она в Бога или нет. Но сейчас она молилась, потому что большего она не могла сделать для Николаса. Это хоть как-то утешало ее, и она прижимала это утешение к себе, как ребенок прижимает к груди плюшевого мишку, когда над кроваткой сгущаются ночные тени.
— С моим мужем все в порядке? — спросила она на ломаном японском.
— Никаких причин для волнения, — успокоила ее женщина, в которой Жюстина определила старшую медсестру.
Профессиональный жаргон медработников одинаков во всех точках земного шара, подумала Жюстина. Стандартные ответы на любой вопрос.
Она наблюдала, как сестры колдуют над Николасом, и думала, какой черт занес ее в Японию. Поначалу она с радостью согласилась остаться здесь. Ведь этого, в конце концов, хотел и Николас, и ее босс, Рик Миллер, мечтавший открыть в Токио отделение своего рекламного агентства. Так что все, казалось, складывается наилучшим образом, как в счастливой развязке душещипательного романа.
Но в действительности все обернулось иначе. Во-первых, она была здесь иностранкой, а начинать здесь бизнес какого угодно рода тому, кто не является японцем, — занятие не для слабаков. Теперь, оглядываясь назад, она должна была признаться, что ей не удалось бы даже открыть свою контору, если бы не поддержка Тандзана Нанги и Ника.
Ее поражало до глубины души, насколько сильным было здесь влияние ее мужа. Ведь он все-таки тоже иностранец. Однако японцы относились к нему с почтением, которое у них было припасено только для соотечественников. Во многом Ник был обязан этим самому себе, но уважение это также проистекало из того факта, что он был сыном полковника Денниса Линнера.