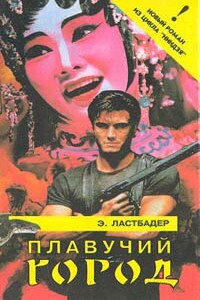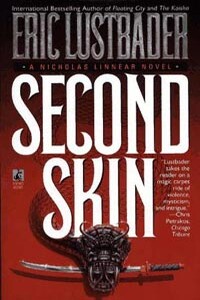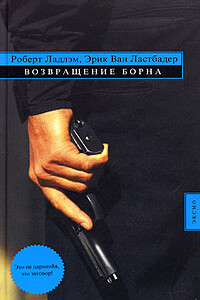Минуту Нанги сидел совсем неподвижно. Ему хотелось курить. Но в день похорон Сейчи Сато он бросил курить. Это было не как временная епитимья, а как знак вечной скорби — как огонь над солдатской могилой — об ушедшем друге. Как только Нанги тянуло закурить, он вспоминал Сейчи. Во время войны старший брат Сейчи пожертвовал собой, чтобы спасти Нанги. Теперь, после смерти Сейчи, никто, кроме самого Нанги, не знал об этом, даже Николас.
Нанги вспоминал буддистскую церемонию над могилой Сейчи, не имеющую для него никакого смысла, но необходимую в этой стране, где большинство людей поклоняется Будде и синтоистским духам. Он вспомнил, как читал про себя молитву по-латыни, когда были зажжены палочки и священники затянули литанию.
После похорон, опустошив свой серебряный портсигар в ближайшую урну, Нанги вернулся на поезде в Токио, но не пошел в контору сразу, а отправился в церковь.
Война изменила Нанги во многом: она лишила его одного глаза, нормальной работоспособности ног, и, кроме того, она отняла у него лучшего друга. Но самой серьезной переменой было его обращение в католичество. Один на плоту посреди Тихого океана, когда смерть Готаро была все еще свежей раной, он думал о том, как найти успокоение, и дух его взалкал. В Боге нуждался в тот момент Нанги, но и буддизм, и синтоизм отрицали идею Бога. После войны первое, о чем он вспомнил, так это о Библии.
Прошли годы, и вот, схоронив Сейчи, Нанги входит в свою церковь и направляется к исповедальне.
«Прости меня, отче, ибо я согрешил...»
Он чувствует себя смягчившимся и успокоившимся. Ему сказали, что Господь с ним, и, ухватившись за эту мысль, он нашел утешение... Но иногда, как, например, теперь, в заполненной паром бане, Нанги посещали сомнения. Он не знал, укрепил ли его или, наоборот, ослабил католицизм. Это правда, что во время испытаний вера в Бога поддерживала его. Но в другие моменты, как, например, теперь, он начал беспокоиться за свою беспрекословную веру в силу католической литании, за свою приверженность Римской церкви. В такие моменты он попадал в замкнутый круг. С одной стороны, он понимал, что должен подчиняться воле Божией и требованиям церкви, а с другой стороны — иногда начинал чувствовать себя примерно так же, как наркоман, попавший в зависимость от сил, которыми он не может управлять, и чувствующий, как потихоньку умирает его воля. Это — пугало Нанги.
И, что еще хуже, он чувствовал, что ему трудно исповедоваться священнику в своих сомнениях. Это уже само по себе было грехом. Но он не мог себя заставить признаться в своем поражении, тем более в том, что он сомневался, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли это было поражение. Значило ли это, что он предал Бога, или это значило, что Бог предал его?
Нанги не мог дать ответа на этот вопрос и часто в последнее время думал, есть ли какая-нибудь разница между тем и другим. В своем смятенном состоянии он счел невозможным принять причастие, что еще больше усугубило его чувство отчужденности. Его душу смущали предчувствия: он понимал, что над ним и над его близкими сгущаются сумерки.
Здоровый глаз Нанги сфокусировался на металлической двери шкафчика прямо перед ним. С усилием он заставил себя вернуться в настоящее. Он постарался сосредоточиться, сделав несколько глубоких вдохов. Ему потребуются все его внутренние ресурсы, чтобы эта встреча с Кузундой Икузой прошла достойно.
Раздевшись полностью, Нанги запер шкафчик, привязал ключ к запястью руки и пошел, опираясь на трость тяжелее обычного. Обычно он всегда прибегал к этому трюку, когда ему надо было встретиться с кем-либо в общественном месте. Умный человек должен уметь извлекать пользу даже из физических недостатков. Герой войны все еще пользовался почетом в Японии, и Нанги взял себе за правило пользоваться любым преимуществом, которое его собственное трудолюбие, судьба или случай посылали ему.
Его зрячий глаз, глубоко запавший среди складок и морщин, образующих почти правильный треугольник, внимательно оглядывал отделанные керамическими плитками своды коридора, по которому шел Нанги. Пол был деревянный, и постукивание его трости глухим эхом отдавалось в насыщенном влагой воздухе.