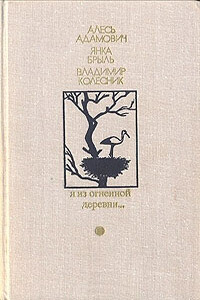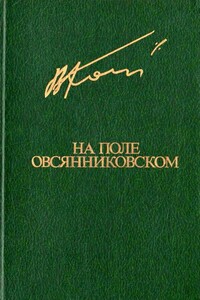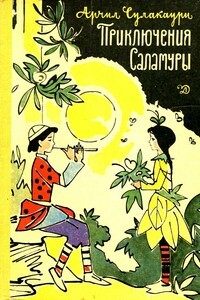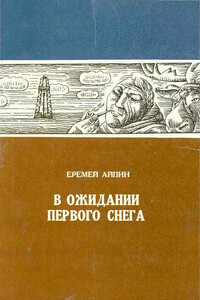— Пятерых преподнесу тебе вместо трех, Иванэ Бериташвили, ухоженных, упитанных, что ты тогда скажешь — имеем мы понятие, знаем мы цену науке, а?
Понятие о науке у старика было смутное, а вернее — никакого не было, но он говаривал — разум подсказывал: на общее благо придумали науку, большого ума люди придумали ее.
Главное, однако, в другом…
Природа создала дядю Григола добрым человеком, сердечным. Всю свою жизнь он старался сеять добро — это было потребностью его души. Но жизнь с корнем вырывала посеянное им и грубо швыряла ему в лицо. И, доживая жизнь, во всем разуверившийся, как мы сказали, старик и не чаял уже еще кому-нибудь понадобиться на свете, — так разве мог он остаться в стороне от большого, нужного дела?
Соседи и обитатели квартала удивлялись оживленной хлопотне дяди Григола и не понимали, что его вдруг взбодрило, что вдохнуло в него жизнь. Одним казалось, что старик совсем из ума выжил, другие полагали, что он дурачит их — выдумал типа в золотых очках, жалея щенят: от старости не в меру сердобольным стал и не хочет топить их больше.
А слепые щенята между тем жадно припадали к материнским сосцам, надуваясь, как маленькие бурдючки. Старик приносил от соседей объедки для собаки, даже молоко ей купил у молочницы и дал, разбавив водой, накрошив хлеба, говоря — молока в сосцах прибавится.
На четвертый день он не вытерпел и открылся всем соседям, каждому в отдельности поведал, почему, чего ради носится с собакой, раскармливает ее. Люди с напускным вниманием слушали его восторженный рассказ, уже зная тайну от Эзекии.
Одни притворно восхищались крохотными щенками и сулили им блестящее будущее, скрывая насмешливые ухмылки, но большинство куда более определенно представляло себе их участь: железная клетка Муко — узилище бродячих собак, и они твердили свое: на кой тебе, дядя Григол, множить бездомных собак!
Как бы там ни было, и верившие, и не верившие старику, не признаваясь себе, дожидались появления ученого в золотых очках. А сказать вернее, сгорали от любопытства — каждый хотел воочию узреть ученого, в существовании которого сомневался.
Старый кожемяка заглянул к мельнику Степанэ — попросить миску муки на варево для собаки, но мельница оказалась на запоре. С настила лодки, на которой стояла будка, его окликнул Эзекиа:
— Пожалуй к нам, дядя Григол, благослови наш стол!
Привязанная толстыми цепями мельница тихо покачивалась на волнах Мтквари, массивное деревянное колесо грузно вращалось, и из дощатой будки доносились гул и мерный стук порхлицы.
Позади мельницы на длинной скамье вдоль перил пристроились Эзекиа и кузнец Чумдатуа, оба люди преклонных лет. Кузнец был невзрачный, но жилистый, прокаленный пламенем горна.
Возле перил стоял служивший столом деревянный ящик, застланный старой газетой, а на нем — две бутылки вина. «Нашли время пить в эдакую жару», — укоризненно подумал старик, но, перебравшись к ним через мостик, сразу ощутил некоторую прохладу; легкий ветерок, слетавший то ли с волн, то ли с лопастей колеса, обдавал живительной свежестью и как будто рассеивал знойную духоту.
Дядя Григол опустился на скамейку и выпил с ними стаканчик вина, перекинулся несколькими словами. Но внезапно его потянуло прочь, ни говорить с ними, ни слушать их не было охоты. «Ладно, посижу малость, авось Степанэ подойдет, возьму горсть муки и пойду восвояси», — сказал он себе.
Низко над городом повисла удушливая туча, и не понять было — полдень сейчас или уже сумерки. Спасением был бы сейчас ливень, но муторный день, кажется, не собирался освежаться дождем.
Степанэ все не появлялся, и старик собрался уходить, решив зайти завтра, но его уговорили выпить еще стаканчик, и он остался, оправдываясь перед собой: «Чего откладывать, раз уж тут, дождусь мельника».
Во дворе появился Зеленый френч. Помедлив чуть и оглядевшись, он пустился к мельнице.
Перейдя мостик, он остановился, явно озадаченный, не ожидал, кажется, застать здесь кого-либо. Однако виду не подал.
Сидевших за «столом» он знал и, не выказывая недовольства, нарочито весело крикнул: «Привет компании!», словно невесть как обрадовался им.