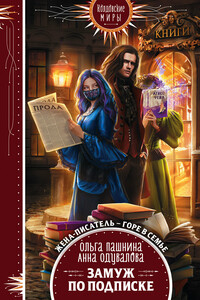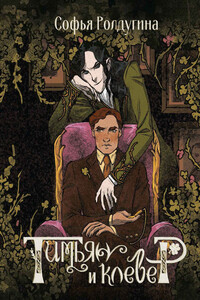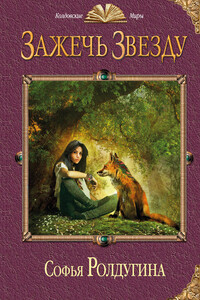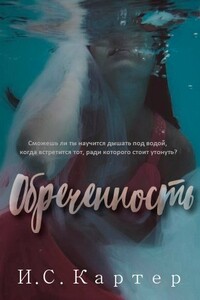– Спасибо, – искренне поблагодарила я. – Я вовсе не стремлюсь в могилу, даже если со стороны по мне не скажешь.
Губы Тантаэ тронула чуть заметная улыбка.
– Порой мы попадаем в такие ситуации, когда сложно отличить правильное от неправильного. Вашей вины здесь нет. А Ксиль… что за смысл в жизни без души? – Тантаэ бережно стер с моего лба холодный пот кончиками пальцев, и я со всей ясностью осознала, что этот жест, болезненно-нежный и грустный, предназначался вовсе не мне. – Впрочем, я надеюсь, что он всего лишь совершил ошибку.
Я напряглась.
– Вы уже второй раз говорите о потерянной душе. Сейчас и тогда, на поляне, – тоже. Это как-то связано с вашей религией? Ну, нельзя убивать детей или что-то в этом роде…
– И да, и нет, – спокойно ответил Пепельный князь, продолжая задумчиво гладить меня по волосам. – Если бы Максимилиан убил бы вас, то он бы изменился. Потерял бы свою суть. Душу, как говорят люди, и за неимением другого слова, я использую это.
Я бессознательным движением подтянула колени к подбородку. Ребристая спинка скамьи больно впивалась в позвоночник, но такие мелкие неудобства волновали меня меньше всего.
– Но разве это так важно?.. Он же убивал и раньше, правда? – Я прикрыла глаза. От света фонарей, бьющего прямо в глаза, разболелась голова. – Даже на моих глазах он совершил с десяток убийств… Думаете, еще один труп что-либо изменил бы?
– Дело не в этом, – поморщился Пепельный князь. – Он убивал и раньше, это верно. В бою или ради пищи, или ради мести, или для развлечения… Да, он убивал. Но не детей. А еще никогда он не предавал тех, кто ему доверился. И, кроме того… – Князь улыбнулся. В лунном свете глаза полыхнули насыщенным алым. – …все мы можем полюбить лишь однажды. И какой смысл жить дальше, если цена за жизнь – это отказ от чуда?
– А при чем здесь… – начала я и осеклась.
Скажи «нет», пожалуйста. Только ни за что не соглашайся.
– Ксиль открылся вам, – медленно произнес Тантаэ, растягивая слова. – Открылся полностью, настолько глубоко, что даже мне это кажется удивительным. Сам-то он полагал, что делает это потому, что хочет добиться вашего полного доверия в кратчайшие сроки, и не заметил, как подпустил вас слишком близко. Мы не люди, Найта, и наша любовь – это нечто совершенно другое. Любовь шакаи-ар – это одержимость, а Ксиль был одержим вами, как никем другим. Единственный шанс на спасение – с одной стороны, и ребенок, неприкосновенное существо – с другой. – Он болезненно скривился. – Где уж тут сохранить ясность рассудка. Ксиль и не заметил, как ненадолго вы заслонили для него весь мир, пусть и в весьма специфическом смысле. Мне бы хотелось, чтобы эта одержимость стала настоящей любовью…
– Любовью?! – Я дернулась и едва не завалилась со скамьи – голову повело. – Он специально пудрил мне мозги почти месяц! Смущал, доводил, изображал заботу! И все для того, чтобы я по уши влюбилась и добровольно легла на этот идиотский алтарь! Что вы на это скажете, а? Хороша любовь?
Меня уже трясло – от злости, или от тоски, или от того и другого вместе. Хотелось кричать… И чтобы Ксиль пришел на этот крик, успокоил, объяснил, что все это было недоразумением…
Тантаэ оставил бесполезные попытки вставить в мою тираду хоть слово и теперь просто стоял напротив меня, скрестив руки на груди. В темно-вишневых глазах светилась насмешливая грусть. Он все понимал, этот странный князь, который готов был убить своего друга, но не дать ему совершить роковую ошибку.
– А вы потом помиритесь? – спросила я, когда сил на крик не осталось. Тантаэ дернулся. Опять лезу не в свое дело… – Извините.
Он отвел взгляд.
– Я не смею на это надеяться. Тогда, на поляне, я наговорил много того, чего не могу себе простить. Бросил ему в лицо все то, что он боялся услышать. Знаете, каков его персональный кошмар, Найта? – внезапно спросил князь. Я вяло покачала головой. Недавняя истерика выжала из меня все соки. Хотелось одного – лечь и уснуть, хоть здесь, на лавочке, хоть на алтаре. А потом проснуться и понять, что все это было просто дурацким сном. – Одиночество. Очень давно он пережил несколько дней, страшных дней, когда в мире не осталось никого, кроме него. И ничего, что заставило бы его встать и идти дальше.