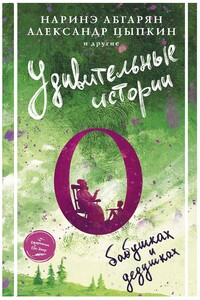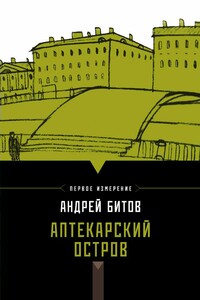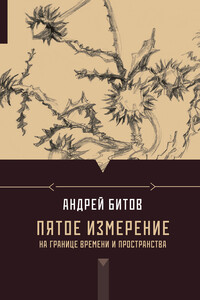Впервые я увидел Женю, когда уже был мальчишкой, воображающим, что он уже не мальчишка. Она оказалась до оторопи конкретной. Мне грезилось что-то серебристо-воздушное с распущенными голубыми волосами, а у нее оказался чеканный орлиный профилек, как у Досхоевой, и гофрированные черные волосы, сверкающие, словно надраенные хромовые сапоги. Брови же ее в первый миг буквально обтянули меня гусиной кожей — они показались мне двумя черными гусеницами. Но, к счастью, я об этом тут же забыл.
Сквозь восторженный чад, в котором я тогда плыл, не могу теперь разглядеть ни тогдашнего дядю Сюню, ни тогдашнюю тетю Клаву, ни тогдашнего Города, каким я его впоследствии увидел сквозь булгаковскую грезу. Подручные типовые грезки у меня сыскались только для тети Клавы — «статная русская красавица» — и для сталинского Хрещатика — «получше Москвы». (Хотя в Москве в то время я еще не бывал: папа считал, что не надо протискиваться туда, где тебя не хотят видеть, нужно обживать собственный угол. А также не нужно никуда стремиться только потому, что туда стремятся все; поэтому у нас была и своя Швейцария, и своя Ривьера, и свой сибирский Париж. Насмешила меня средь имперских пышностей только вывеска «Речи напрокат», — я решил, что это для ораторов, а оказалось, речи были просто вещи. Я еще не понимал всей глубины этого сближения (слова — главные вещи), тем более что украинский язык самим провидением был предназначен для потехи; даже у нас в леспромхозе было известно, что «самопер попер до мордописца» означает «автомобиль поехал к фотографу».)
Но для дяди Сюни в моем арсенальчике никаких приятных слов не сыскалось. «Юморной» — нет, здесь дело было явно позаковыристей. «Добряк» — тоже не то чтобы, люди в его байках отнюдь не выглядели ангелами. Но — он умел посмеиваться там, где папа откровенно расстраивался, а я лез на стену. Поэтому перед Женей я только хорохорился, а обольстить старался именно его. Сначала, впрочем, я и перед ним попробовал поерепениться — стоя над зелеными днепровскими кручами, удивительно кучерявыми после наших стрельчатых таежных безбрежий, я преувеличенно возмущался недостаточной шириной Днепра: редкая-де птица долетит до середины его — да любой воробей, любая ворона… «При всем желании не могу сделать его шире», — со сдержанной улыбкой сказал дядя Сюня, и я озадаченно смолк. Ирония — эта в еврейских кругах отнюдь не редкая птица никогда не долетала до нашего леспромхоза. И уж так меня пленил ее остренький клювик под невинным оперением: и отбрил, и обошелся без хамства!.. Которое уже тогда в моих глазах утрачивало последние остатки поэзии.
Папа хамства тоже никогда не допускал, но дядя Сюня показался мне куда завлекательнее. Папа, как я теперь догадываюсь, старался быть всего лишь таежным джентльменом, а вот дядя Сюня — мудрецом. Да не простым, а еврейским — «что вы хотите — это так по-человечески», «так что же — прикажете плакать?»… Если папина подтянутость отзывалась словом «выправка», то за дядисюниным безразличием ко всяческой бравости таилась какая-то новая красота. Я млел от восхищения, когда дядя Сюня, воротясь от портного, сообщал, что талия у него оказалась под мышками. И я хохотал даже еще чуточку более восторженно и беззаботно, чем мне хотелось, когда в музее захидного та ехидного мистецтва дядя Сюня показывал на китайского божка довольства — колотящего в бубен брюха жизнерадостного лакированного прищуренного толстяка: «Это я».
Когда я начинал склочным голосом качать права, папины губы принимали брезгливое выражение; но если что-то подобное заводила Женя, дядя Сюня, цитируя какую-то юмореску, начинал бубнить голосом унылого оратора: «Своим капитальным трудом товарищ Нудник…» — и Женя не выдерживала, прыскала. Правда, когда она однажды задержалась из гостей, дядя Сюня, словно обыкновенный смертный, явно не находил себе места. Зато когда папа начал его успокаивать, он сдержанно улыбнулся: «Детей много что ли?»
«Весельчак»? Вот уж нет, он никогда не хохотал, только посмеивался. И даже сейчас мне кажется, посмеивался искренне, когда две поругавшиеся бабы в гастрономе стали швырять друг в друга яйцами и угодили в него. Папа бы впал в меланхолию, я бы полез на стенку, а он радовался, словно радушный хозяин, демонстрирующий гостям свой паноптикум. И я уже тогда почуял мощь этого еврейского оборонительного оружия — представлять своих насильников уморительными идиотами. Я не сумел овладеть этим оружием только потому, что так и не научился не замечать, на чьих все-таки очках повис яичный желток.