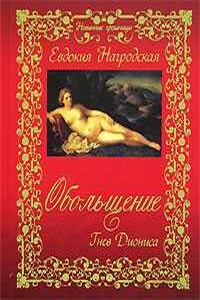— А разве мы не счастливы? Не все ли равно? — смеясь, обняла она его.
— Совсем не все равно. Как ты этого не понимаешь?
— Ну в чем же разница? Ну скажи, скажи? — тормошила она его, смеясь, счастливая высказанным им нетерпением.
Он освободился из ее рук:
— Знаешь, ты такая высокая и величественная женщина, к тебе не идут эти манеры пансионерки.
Он сказал эту фразу так холодно и резко, что она побледнела и сделала шаг назад.
Он сейчас же взял ее руки и, улыбаясь, заговорил:
— Китти, Китти, не сердись! Я с первого взгляда пленился в тебе именно этой величавостью, твоим царственным спокойствием и я хочу всегда видеть тебя такою. Нам обоим не к лицу разводить какие-то глупые романы с упреками, сценами и сентиментальными выходками. Ты находишь естественным наше положение? Удивляюсь тебе! Таиться, видеться урывками — это не в моем характере. После свадьбы мы можем, смотря прямо всем в глаза, быть всегда вместе.
Он говорил очень долго на эту тему, долго и внушительно, держа ее за руку.
Когда он ушел, она просидела целый час не двигаясь.
«Видеться урывками, — думала она. — Кто же заставляет их видеться урывками? Ведь я всегда прошу его остаться, посидеть, это он вечно куда-то торопится. Зачем я так сильно полюбила его? И где же это «счастье любви»? Или о любви у меня ложное понятие, или я слишком требовательна. А может быть, я не умею любить?»
Слезы вдруг брызнули из ее глаз. Ах, как часто она теперь плакала!
Последнее время Накатова даже забыла о Тале, она слишком была поглощена своей страстью.
На этот раз, когда ей доложили о госпоже Карпакиной, она даже слегка поморщилась, так как ждала Николая Платоновича, но, едва Таля вошла в комнату, Накатова сразу оживилась и нежно поцеловала девушку.
— Ну, рассказывайте, Таля, как вы поживаете? — спросила она, усаживая гостью в кресло.
— Как я поживаю? Душевно или телесно? — спросила Таля, вдруг рассмеявшись.
— И душевно, и телесно, — засмеялась и Накатова.
— Душевно — прекрасно, лучше нельзя, а телесно — из рук вон плохо.
— Вы больны?
— Нет, я здорова.
— А как же вы говорите…
— Ах, это я не так выразилась, материальные дела плохи. Ведь я вас пришла просить, нет ли у ваших знакомых каких-нибудь занятий для меня. Я работать могу много и хорошо. Видите, дело в том, что из дома мне присылают сорок рублей, и еще в одном издании я получала тридцать рублей за корректуры. А у Мирончика отличные способности к музыке, и ему, калеке, скрипка была такое утешение, а тут нашлась барышня — консерваторка, очень голодная барышня, и так это хорошо выходило! И барышне десять рублей нужны, и Мирончику такое удовольствие и польза, а тут вдруг издание прекратилось, и мы все сели в лужу.
— Хотите, я буду платить за эти уроки, — предложила Екатерина Антоновна.
— Э, нет! Зачем? Вот если я умру, я вам в завещании оставлю и Мирончика, и консерваторку, а пока вы лучше мне какое-нибудь занятие поищите, если не лень.
— Хорошо, я узнаю насчет уроков.
— Боже вас сохрани. Уроки! Да разве я могу давать уроки? Надо уметь ведь учить ребенка, большую ответственность на себя брать. Я не умею.
— Да как же вы не можете, вы курсистка, большинство же дает уроки?
— Ну и плохо делают — это дело надо хорошо знать. Вот бы мне приходящей бонной — это я могу, или горничной… Ах, вот если бы горничной! Я могу шить, прически отлично делаю, я всех на балы причесываю и маникюр знаю, — смотрите, какие у меня ногти.
— А ваши курсы?
— Ах да, с курсами, правда, нельзя, меня с места на курсы отпускать не будут.
— И вы бы согласились поступить в горничные? Вы шутите.
— Нисколько, — вдруг серьезно посмотрела Таля на Накатову. — Я знаю — это очень нелегкая должность, и для интеллигентной девушки всего тяжелее, кажется, положение прислуги, а я бы на это смотрела как на маскарад, и мне бы даже забавно было, а теплее и сытнее — это уже наверное! Этакой-то трезвой, работящей, «без знакомств», с прической, да с шитьем, — мне бы меньше двадцати рублей не дали, а еще стол и квартира!
— Но маскарад, когда он тянется слишком долго, станет тяжким — нельзя всю жизнь жить маскарадом.
— Во-первых, не всю жизнь, а «временно», и это сознание много значит! — опять серьезно заговорила Та-ля. — Вспомните еще, что у меня есть «там», — неопределенно махнула она рукой, — значит, жизнь все равно временный маскарад, и не беда, если он еще немного помаскарадней будет, — не велика разница. Я не говорю, что жизнь не огорчает, но если знаешь, что все это пройдет, и потом все за минуточку покажется, за маленькую минуточку, за искорку! Искра обожжет, а дальше полететь красиво! Кто не может так думать, мне того жаль. А я могу, и слава Богу! Вот моя сестра, Зоя, она может расстроиться до болезни, если ей портниха платье испортит. Я не осуждаю ее, не смеюсь над ней. Я раз с ней вместе плакала, когда у нее кунье боа моль съела: она над боа плачет, а я над нею, мне ее жалко, что она убивается, даже о стенку головой колотится. Что же ей говорить, что это пустяк, когда это для нее главное. Я ведь буду реветь над чужим горем, а другому это смешным покажется. А у меня вот тогда горе, когда я не могу помочь, не могу передать того света и радости, которым я полна.