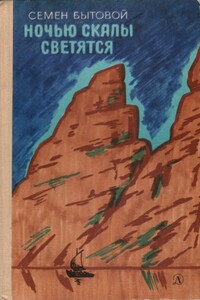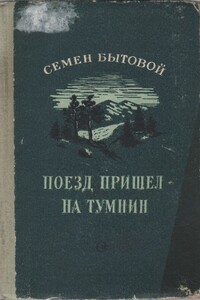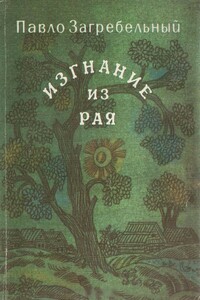Когда Медведев вошел в помещение, Ольга спросила:
- Вы, Николай, по пути или специально?
- И по пути, и специально, - грустно улыбнувшись, ответил он.
- Вы, наверно, голодны?
Он провел ребром ладони по горлу:
- По самый край сыт, Оля...
- Что, опять война?
- Великая... - невесело засмеялся Медведев и стал закуривать.
Ольга тоже потянулась за папиросой.
- Юра запрещает мне, а я тайком от него иногда и закурю.
- Ну ничего, со мной можно. Кстати, где он?
- Уехал с новым директором леспромхоза.
- Кто он, этот новый?
- Харитон Федорович Буров. Его привез сюда Щеглов. Третьего дня они у нас ночевали. Щеглов уехал обратно в Турнин, а Юрий с новым директором отправились в тайгу.
Николай с нескрываемым интересом поглядывал на Ольгу, словно искал в ней какие-то перемены. Он отметил про себя, что лицо ее немного вытянулось, стало бледноватым, а под глазами появились синие жилочки. В движениях Ольги исчезла прежняя живость, они стали неторопливыми, как бы расчетливыми.
- Оля, что у Клавы? - спросил он.
Она улыбнулась:
- Вы - муж... Сами должны знать...
- Но вы доктор!
- Доктор для больных. А Клава совершенно здорова.
- Она просила вас сделать аборт?
- Да, просила.
- А что вы ей ответили?
- Я ей ответила, что ни один честный врач не возьмет это на себя... Может быть, где-нибудь и найдется прохвост, который за деньги искалечит ее.
- Она говорила, что хочет уехать в Ленинград?
- Говорила, Коля. И вы сделаете непоправимую глупость, если ее отпустите...
Он махнул рукой:
- Пускай едет!
- Ни под каким видом, слышите! Если она уедет, то погубит себя! Ей уже поздно, Коля. Месяц назад еще можно было, а теперь уже поздно.
- И вы ей сказали об этом?
- Да.
- А она что?
- Испугалась, по-моему.
- Ей и в Ленинграде врачи скажут то же самое. А Клава трусиха. Она боится смерти!
- Коля, как вы смеете так говорить?
Он виновато промолчал, взял новую папиросу.
- Ну, Оля, я поехал!
Она с грустью смотрела, как Николай, опустив голову, медленно уходил к ожидавшей его машине.
3
Двадцатого июля Клава улетела в Ленинград, а пятого августа Медведев получил от тестя телеграмму-молнию: "Срочно вылетай. Клавдия тяжелейшем состоянии. Торопов".
Ни Юрий, ни Ольга не знали, что Медведев той же ночью, захватив плащ и портфель, на полуторке отправился на аэродром и первым же рейсовым самолетом на рассвете улетел в Хабаровск, а оттуда в Ленинград.
Спустя неделю Николай телеграфировал в Агур: "Дорогие мои, хорошие, вчера похоронили Клавушку. Все убиты горем. Подробно письмом. Медведев".
Точно гром ударил в тихий домик под Орлиной скалой. Считали дни и часы, ожидая подробное письмо от Николая. А когда оно на седьмой день пришло и Ольга дрожащими руками взяла его у Нади Бисянки, маленькой скуластой девушки-орочки, та сразу догадалась, что недобрую весть принесла она доктору. Прислонясь к двери, она слушала, как Ольга, обливаясь слезами, читала Юрию:
"Дорогие мои, милые! - писал Николай. - Все случилось так, как вы говорили, Оля. Клава отыскала какого-то прохвоста, который за тысячу рублей согласился сделать аборт. После этого Клава три дня лежала дома, истекая кровью. Когда вызвали из Кронштадта отца и он срочно отвез ее в военно-морской госпиталь, было уже поздно. Образовался тяжелый сепсис. Клавушка горела. Теряла сознание. Бредила. Когда я, прямо из аэропорта, добрался до госпиталя, она меня уже не узнавала. Только перед смертью к ней на короткое время вернулось сознание и, позвав меня взглядом, она прошептала: "Коленька, прости меня... Я во всем виновата... Помни меня, не забывай... я... я..." Потом как-то странно, с усилием вздохнула, дрогнула вся, и глаза ее остановились. Так на моих руках она и скончалась.
И вот я, ребята, остался один. Сижу на почтамте и пишу это письмо. В Мая-Дату я больше не вернусь. Прилечу в Хабаровск, зайду в трест и попрошу перевод на Камчатку или на Сахалин.
Всего вам хорошего, друзья мои. Увидишь, Юра, Карпа Поликарповича, все ему расскажи. А о моем переводе, видимо, ему сообщат из треста. Всегда ваш Николай Медведев.
P. S. Оля, если у вас родится дочь, назовите ее Клавдией. Имя все-таки хорошее! Ладно? Н. М.".