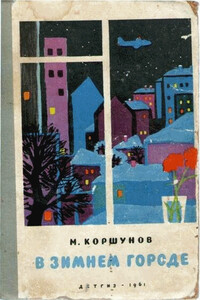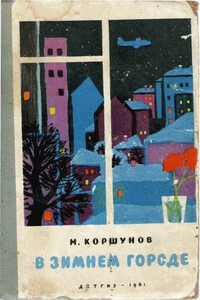Выгнав стадо на пастбище, Володя увидел деда Михаила. Держась за рукоятки плуга, старик устало шел по борозде. Плуг ровными пластами разрезал землю. Черные комья свежей пашни длинными рядами ложились один к одному.
«Как видно, и деда тоже выгнали на работу», — подумал Володя и побежал к старику.
— Здравствуйте, дедушка! — радостно сказал мальчишка.
— Ах, это ты, Володя! Здравствуй, внучек, здравствуй.
— Что, заставили работать? — поинтересовался мальчуган. Дед внимательно посмотрел на Володю и, неторопливо разглаживая широкой шершавой ладонью усы, сказал:
— Нет, сынок, на этот раз сам вышел. Думаю, зимой придут наши. Что же мы, перед ними дармоедами будем выглядеть? Посеем при немцах, соберем при наших. Это тебе не сорок первый… Ну, а ты как?
Дед достал из кармана кресало, добыл огонь и жадно затянулся дымом.
— Стадо пасу. Хорошо в поле, никто не обидит.
— Не обидит, говоришь? — спросил дед. — Посмотри на дорогу.
Володя обернулся и увидел — рябой полицай, свернув с дороги, направился к ним.
— До войны по сараям лазил, в тюрьме сидел, а теперь высокая «власть»… — Дед засопел и брезгливо сплюнул: — Слизняк!.. Когда мне в полиции бороду выжигали, он Сокальскому огонь подносил…
Несмело подошел полицай:
— Здорово, дед!
— Не здорово, а здравствуйте! — огрызнулся старик. Полицай снисходительно протянул руку.
— Ну здравствуйте!
— Душегубам руки не подаю!
— Какой же я душегуб?
— До власти, говоришь, добрался? А сколько ты через это горя людям принес!
— Чего вы такие сердитые? — удивился полицай.
— А что мне, поцеловаться с тобой?
— Кое-кто, вишь, и целуется.
— Те, что вместе с тобой мне бороду выжигали?.. Ничего, скоро другие так «поцелуют», что богу душу сразу отдашь…
— Вы о чем?
— А все о том, щербатая твоя душа!
— Вы… тот… вишь, не будьте таким умным, — хотел было возмутиться полицай. Но вдруг его лицо, покрытое рыжими веснушками, побагровело. — Не тот хозяин, кому слово принадлежит, а тот, на чьей стороне сила, — угрожающе объяснил полицай, стукнув ладонью по прикладу карабина.
— Не пугай, не испугаешь… Чего пришел?
— Подозрительных тут не видели?
— Как же не видели? — ответил дед. — Видели.
Полицай насторожился.
— Видели здесь одного, — продолжал говорить дед Михаил, — шатается, бродяга бездомный…
— Кто?
— Да ты, иудов сын!
— Ах, оставьте, дед, — сказал полицай и махнул рукой. — Дайте хотя бы самосаду на цигарку. — И рябой достал газету, оторвал кусок.
— А почему ты немецких сигарет не куришь? — съязвил старик.
— Они как пакля. И дым не тот: сладкий, вишь, какой-то, приторный.
— Это он вам, холуям, после Сталинграда стал приторный!
— Вы бы, дед, лучше язык за зубами попридержали! — сердито сказал полицай и бросил оторванный кусок газеты.
— Ну что? Донесешь на меня фрицу? Отведешь в полицию? Да плевал я на вас! В сорок первом ты бы меня не пожалел. А сейчас, значит, боишься?
Полицай неожиданно вздохнул и прибавил:
— Думаете, мне легко? — Снял карабин, положил его на землю и подошел к плугу. Взялся за рукоять: — Обойду дважды…
Старик вскочил на ноги и сжал мозолистой рукой дубовый чистик[13]:
— Брось, говорю, брось! Не смей! Ты знаешь, что такое земля? Она — голуба наша. Люби ее, и она тебя не обидит. Только не предавай ее, мать родную, не дай ее врагу на растерзание, потому что тогда для нее и ты станешь лютым врагом… Власти захотел? Будешь служить свинопасом на немецком выгоне! Собакой бездомной, безродной околеешь на чужом дворе!
Раскраснелся дед Михаил, смотрел на полицая сердито из-под седых нахмуренных бровей. Тот не выдержал его взгляда, опустил глаза и замолчал.
— Как придут красные, — наконец проглотил он горькую слюну, — вы скажите, что я, вишь, вам никакого зла не чинил…
— Иди! Не растравляй душу. Она тоже, как вот потрескавшиеся ладони, — и дед поднял вверх руки, — вся в мозолях.
— Куда же мне идти? Начальник меня в Лубянку послал учительницу арестовать.
— Пока не поздно, ищи тропинку в лес. Да не с голыми руками иди. Может, еще вымолишь прощения… — посоветовал дед Михаил.
— Дайте самосаду на дорогу.
Дед вытащил из кармана сложенную в гармошку газету, оторвал кусок, вынул кисет, протянул полицаю.