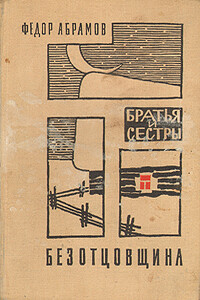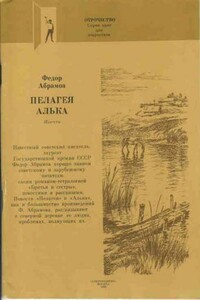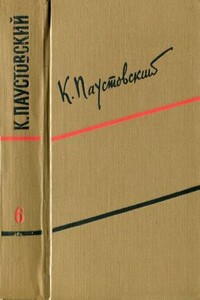– Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла! - расчувствовалась Евстолия. - Хоть снова замуж выходи.
– Дак ведь пензия-то у ей не наше горе, - сказала Маланья, та речистая старуха в повой-нике с золотым донышком, - не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.
– Заслужила! - трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).
– Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, - начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). - Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.
– А где у тебя сам-то?
Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.
– А сам на повети! - весело ответила Катерина.
– На повети? Чего там делает? Деньги зарабатывает, пока жена гуляет?
– Молчи ты, - замахала руками Маланья. - С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.
– Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала - от Горди выходной взяла.
– Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.
– Гордю не трогать! - вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.
– Не трогам, не трогам, Виталий Иванович, - опять перешла на елейный тон Маланья. - Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?
– Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.
– У-у, у-у, беда! - стоном простонал стол. - Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она - дюжину!
– Да, я уж не видывала Катерину в простое. Всё с брюхом.
– И правильно! Посуда не должна быть в простое.
На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:
– Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?
Катерина разудало крикнула - нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:
– Девки, мясо на стол!
– Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.
– В председатели надоть! - поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, гроза-старуха.- А то всю жизнь из-за моря телушку возим.
– Верно-о-о!
Тем временем две дочери Катерины - просто замухрыги невзрачные по сравнению с мате-рью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах - культурные, в городе живут, - принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбавшаяся - у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, - вдруг взъярилась:
– Это чего вы принесли? Кошкам исть але людям?
Одна из дочерей с укором покачала головой:
– Красиво, больно красиво налакалась!
– А хоть и налакалась, не на ваши деньги. На свои!
– Мама, да ты с ума сошла! - Это уже другая дочь попыталась утихомирить разошедшу-юся мать.
Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:
– Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.
Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом - Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, - тоже что-то вроде оцепенения наступило.
Катерина вдруг расплакалась:
– Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!
– Ты-то, ты-то отчаянная?
– Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.
– Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у него в кажной деревне наследники да девки.
– Нет, бабы, не вру, - сказала Катерина. - На войну-то, помните, сколько от нас уходи-ло? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были. Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.
– Мама...
– Да чего - мама? - накинулась на дочь Катерины Маланья. - По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать. Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? - И вдруг рассмеялась: - Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот те бог.
– Ну тогда и меня в свою компанию примайте. Моя крепость тоже осады не выдежала, - призналась Евстолия.