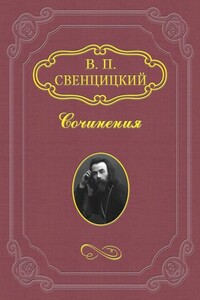Две предпосылки: свободно вылившееся в необоримое убеждение Чернышевского - «говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас; входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие» и строго выверенная собственная мысль о необходимости «партии народа в литературе» стали для Добролюбова наиглавнейшими точками опоры для выявления жизненно важных черт народного характера. «Вы, - писал критик Некрасову, решительно осуждавшему инертность русского простолюдья и связавшему свои идеалы с его активными, взывающими к консолидации, свойствами, - любимейший русский поэт, представитель добрых начал в нашей поэзии, единственный талант, в котором есть жизнь и сила...».
Примечательно, что народность и народный характер у Добролюбова, приобретя смысл четкого методологического принципа, не вступили в противоречие с эстетическими нормами, наоборот, оказались благотворным толчком для их развития и обогащения. Ведя речь о художественном своеобразии образов С. Славутинского и М. Вовчка, критик не прошел мимо их художественной неполноты, некоторой обескровленности, эстетической диспропорции, связанной с нечеткостью идеологической позиции литераторов. «Мы не можем искать у них эпопеи нашей народной жизни, - не без сожаления отметил он. И уточнил: - Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего и думать о ней. Самосознание народных масс далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом». Выделив недочеты в обрисовке литераторами «простонародных черт», Добролюбов, верный революционно-демократическому методу критического анализа, вскрыл и их причины, соединив в неделимое целое вопрос о народности формы с другими актуальными показателями этой многосторонней проблемы. Эстетическая сторона народности и народного характера тем самым как бы переместилась вглубь, превратилась в само собой разумеющийся второй план, чуткую ретроспективу, необходимую для построения объемной и живой перспективы...
Развивая положение Чернышевского и Добролюбова, Салтыков-Щедрин еще более открыто связал эстетическую «наполненность» народности и народного характера с идеологической платформой литератора, его мировоззрением, глубиной восприятия им народной жизни. «На днях, - с едкой усмешкой отметил он, познакомившись с «благочинно-простонародным» сочинением Клюшникова «Марево», - я прочитал повесть начинающего литератора, и не знаю почему, но мне показалось, что я провел несколько часов в обществе милого, образованного и талантливого квартального надзирателя» (88).
Случаи откровенных эстетических нарушений в трактовке народной натуры Салтыков-Щедрин находил и там, где ему приходилось сталкиваться с мыслью о возможности благополучного сосуществования «человека, питающегося лебедой», и представителя «достаточного» слоя. «Друг! Ведь это неестественно, - протестовал он против таких отступлений от правды жизни в очерке «Глуповское распутство», ведь это пахнет алхимией!., ведь это все равно, что сожительство двух черных петухов!»
Обостренно-дифференцированное наблюдение Некрасова: «Люди холопского звания - сущие псы иногда...», поддержанное Чернышевским и Добролюбовым, нашло в Салтыкове-Щедрине приверженца особенно последовательного и решительного. В письме к А.Н. Пыпину сатирик разделил народ на конкретно-исторический, т.е. действующий на «поприще истории», и активно-деятельный, т.е. «воплощающий идеи демократизма». «Первый, - писал он, - оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть и речи; если он выказывает стремление выйти из состояния бессознательности, тогда сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия все-таки обусловливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности. Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности» (89).
Весь творческий пафос Щедрина был, однако, устремлен на то, чтобы «народ исторический» пробудился от сна и встал на путь обновления жизни, объединился с народом, «воплощающим идеи демократизма». В приобщенности к судьбе «нераздельного» русского мужика, не желающего «прозябать во зле», писатель видел свой нравственно-эстетический идеал. «Мужик есть человек и как человек имеет право на свою долю человеческого счастья», - почти дословно повторил он формулу Белинского, выставив неоднозначный характер «простеца» в качестве важнейшего идейно-эстетического закона времени. При этом под понятием «мужик» Салтыков-Щедрин подразумевал не крестьянина самого по себе, а весь трудящийся люд, обладающий задатками «устроительной силы», то широкое народное «половодье», на которое делали ставку революционные демократы. «Очень может статься, - поделился он своими сокровенными думами о «самобытно-производительных» свойствах русских людей, поднявшихся из толщи народного бытия в 70-е годы, - что та среда, в которой они обретаются, представляют собой грубую и неприятную на взгляд массу, изнемогающую под игом разнородных темных сил; очень может быть, что это даже и не масса, а просто безобразная агломерация единиц, тянущих в разные стороны и не сознающих никакой общей цели. Все это, пожалуй, очень вероятно и даже несомненно, но не менее несомненно и то, что иной среды, от которой можно было бы ждать живого, не заеденного отрицанием слова, покуда еще не найдено, а потому литература не только имеет право, но даже обязана обратиться прежде всего к исследованию именно этой грубой среды и принимать даваемый ею материал именно в том виде, как он есть, не смущаясь некрасивою внешностью и не отвращаясь от темных сторон...»