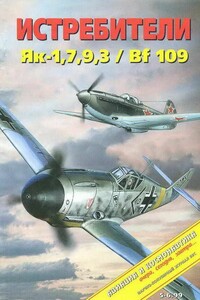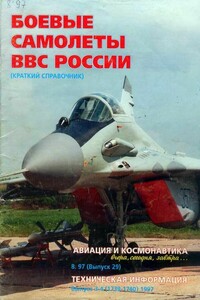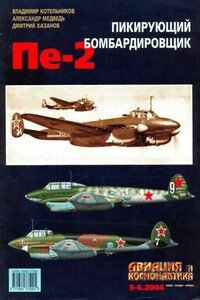Технические причины летного происшествия по результатам расшифровки сохранившихся записей КЗА были вскрыты довольно быстро: раскачка самолета в продольном канале из-за повышенной чувствительности системы управления на больших приборных скоростях. Исследования, выполненные в ОКБ и ЦАГИ на стендах полунатурного моделирования СДУ, полностью подтвердили возможность возникновения на исследуемых режимах раскачки в продольном канале. В Акте раследования было записано:
«1. Катастрофа самолета Т10-2 произошла в результате разрушения в полете из-за выхода самолета на перегрузки, превышающие расчетные (разрушение – пу = 9). Нарушений целостности конструкции самолета и отказов в работе его систем вплоть до момента разрушения не было. Средства аварийного покидания самолета не применялись ввиду быстротечности развития аварийной ситуации.
2. Выход самолета на разрушающую перегрузку объясняется чрезмерно большим для данной приборной скорости первоначальным движением ручкой при неполной фиксации летчика в кресле (плечевые ремни не застопорены) в совокупности с повышенной чувствительностью продольного управления самолета (быстрая реакция и повышенный заброс по перегрузке) на большой приборной скорости при выставленных в процессе их подбора регулировках системы управления.
Обстоятельствами, способствовавшими происшествию явились:
– недостаточная изученность самолетов с автоматической системой штурвального управления и несовершенство норм на характеристики управляемости;
– несовершенство методов полунатурного моделирования и летных испытаний таких самолетов в связи с их новизной;
– недостаточное участие летчиков в моделировании».
В создавшейся ситуации были возможны различные варианты развития событий. У противников применения СДУ после катастрофы Т10-2 появился весомый довод, чтобы лишний раз заявить о неверных подходах к решению проблемы. Но к чести руководства МАП, там никто не высказывал сомнений в выбранном направлении работ.
Фрагмент тестерограммы последнего полета Т10-2
Методы борьбы с указанным явлением разработали довольно оперативно. В структуру продольного канала СДУ включили т.н. префильтр, представляющий собой нелинейное запаздывающее звено, характеристики которого (скорость изменения сигнала и постоянная времени) корректировались в зависимости от величины скоростного напора и высоты полета. Отработка новой структуры СДУ показала, что на эксплуатационных режимах полета проблема была решена.
К этому времени ситуация с выполнением планов летных испытаний в ОКБ складывалась довольно сложная. После катастрофы Т10-2 в наличии имелся только один самолет, ранее установленные сроки изготовления третьей и четвертой опытных машин были давно сорваны, и перспектива скорого выхода Т10-3 и Т10-4 на испытания являлась весьма проблематичной.
В октябре на Т10-1 были завершены доработки СДУ, и 10 ноября 1978 г. М.П. Симонов утвердил «ТЗ на проведение летных испытаний Т10-1 после доработок СДУ», где в качестве основной цели испытаний было записано: «Определение динамических характеристик продольной управляемости самолета». С 24 ноября на ЛИС возобновились летные испытания Т10-1, до конца января 1979 г. B.C. Ильюшин выполнил по этой программе 7 полетов. Кроме этого, поскольку с 1979 г. намечалось существенное увеличение работ по испытаниям Су-27, руководство ОКБ приняло решение расширить круг заводских испытателей, освоивших новый самолет. В результате, после соответствующей подготовки, 20 декабря 1978 г. на Т10-1 самостоятельно вылетели А.С. Комаров и Ю.А. Егоров. В начале 1979 г. каждый из них завершил программу переучивания, выполнив на самолете по 3 полета, после чего, в конце января самолет поставили на доработки по прочности. Но никаких поставок ПНК и РЛС на Т10-1, предусмотренных планами, не последовало, так что выполнявшиеся доработки предусматривали только проведение усилений конструкции самолета по результатам статических испытаний на прочность. Доработка Т10-1 завершилась к середине мая, 24 числа B.C. Ильюшин облетал самолет, после чего на нем возобновились испытания.