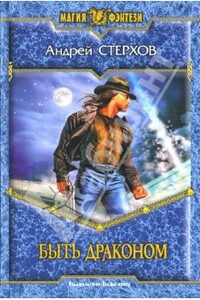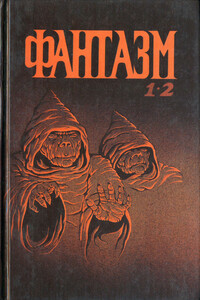Поэт удовлетворённо кивнул и ткнул пальцем в дверку «бардачка»:
— А этот экземпляр кроме нас с тобой ещё кто-нибудь читал?
— Нет.
— Точно?
— Точно.
Ответил уверенно, но уже в следующую секунду хлопнул себя по лбу.
— Блин!
— Что? — отреагировал Ашгарр
— Лера, — простонал я.
И снова полез за трубой. Сначала позвонил своей помощнице на сотовый, но с этим делом вышел затык: бездушный робот елейным до приторности голосом сообщил аж на двух языках, что вызываемый мною абонент сейчас недоступен. Тогда, нервно бурча под нос: «А пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел», я набрал номер её домашнего. Но и тут обломился, услышав в ответ короткие гудки.
— Не берёт? — спросил Ашгарр.
— Занято, — ответил я и взмолился: — Не дай Сила, чтоб уже началось.
Ашгарр напрягся:
— Скажи, а что, собственно, должно начаться?
Ответил я не сразу. Вытащил сигарету, попросил жестом, чтобы Ашгарр наколдовал — о, где ты удивление двенадцатилетнего мальчика-нагона, впервые прикоснувшегося к чуду? — немного огоньку, затянулся, выпустил струю дыма в сторону и лишь тогда сказал, стараясь не выдать голосом волнения:
— Понимаешь, чувак, тут такое дело. Все те, кто проклятый стишок читал, уже погибли. Покончили жизнь самоубийством. Все как один. Такая вот ерундовина. Про послание Ланьлинского насмешника слышал?
— Но Лера же не маг, — быстро сообразив, что к чему, сказал Ашгарр.
— Те тоже магами не были. Ни магами, ни посвящёнными.
— Разве такое возможно?
— Получается, что да.
Упрекать меня Ашгарр не стал. Помолчал, приняв озабоченный вид, и изрёк мудрость мудрую:
— Нужно снять с девчонки проклятие, нужно её расколдовать.
— Тоже мне, айцын паравоз, — хмыкнул я. — Только легко сказать — «расколдовать», а ты знаешь, как?
— Нет, но…
И обескураженный Ашгарр развёл руками.
А я тем временем всё для себя уже решил.
— Значит так, чувак, слушай сюда и не говори потом, что не слышал. Если жива, хватаем в охапку и везём к себе. Ты сторожишь, а я ищу урода, который всё это затеял. Нахожу и… Ну и разруливаю всеми правдами и неправдами ситуацию, работая, как говорят в авиации, по фактической погоде. Не против?
— Что ж, так и сделаем, — согласился поэт. — Всё равно других вариантов у нас, кажется, нет.
И дальше понеслись мы по ночному городу уже на первой космической.
А город в этот предрассветный час не походил сам на себя, он будто сошёл с полотна какого-нибудь сумасшедшего экспрессиониста. Из-за потоков воды, с которыми не справлялись «дворники», всё сливалось в причудливую картину: глянец мокрого асфальта, вспышки фар, всполохи неона, расплывшиеся кляксы голых крон и омытые дождём фасады. При других обстоятельствах можно было бы, пожалуй, и поэстетствовать: погрузиться, цокая языком, в атмосферу осеннего распада, и кружить, кружить в этих отсыревших декорациях до самого рассвета. А потом — домой, стакан кедровки и бай-бай. А ещё лучше — под тёплое крыло к какой-нибудь отзывчивой ведьмочке, которая тоже очень даже не прочь. А уже потом — домой, стакан кедровки и бай-бай. Но только обстоятельства были не «другими», а предложенными, и эти предложенные обстоятельства не оставляли времени на забавные причуды и причудливые забавы.
Рулил я молча, ещё и ещё раз прокручивал в голове ситуацию, и только тогда, когда выбрался дворами к дому Леры, обратился к поэту с вопросом, который давно меня мучил:
— Скажи, книгочей, что означает выражение «отписать Леониду Андрееву»?
— Совершить самоубийство, — ни на секунду не задумавшись, ответил Ашгарр.
Я нервно дёрнул головой и потребовал:
— Объясни.
— Помнишь, после Пятого года в стране, особенно в столицах, свирепствовала эпидемия самоубийств?
— Помню, разумеется. Имела место такая дурь.
— Вот тогда-то и сложился обычай посылать предсмертные записки Леониду Андрееву. По известным причинам считался автор «Повести о семи повешенных» апостолом смерти.
— Кино и немцы, — в который уже раз поразился я человечьему безумию. Разбросав брызги чёрных луж, припарковался, возле подъезда Леры, дал Ашгарру знак, чтобы натянул очки, и вылез из машины.
Пока поднимался в лифте, чуть с ума не сошёл. Чувство, которое испытывал, передать трудно. Думаю, нечто подобное переживает человек выискивающий имя родного человека в списках погибших в авиакатастрофе.