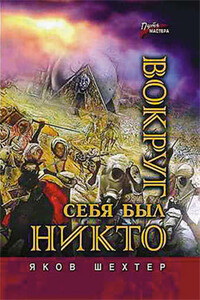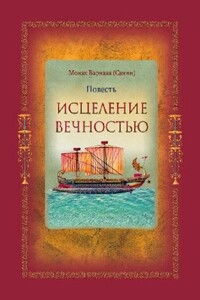Но если, паче чаяния, неисправность или поломка не обнаруживались, Макс Михайлович садился за газеты. Выписывал он две: областную «Советское Зауралье» и московскую «Правду». Читал с карандашом в руках, подчеркивая наиболее интересные места, с тем, чтобы вечером, когда Полина закончит проверку тетрадей, прочитать ей вслух, а потом вместе обсудить новости, сначала городского, а потом общесоюзного масштаба.
Закончив с газетами, Макс Михайлович приступал к художественной литературе. Читал он всегда одного и того же автора – Николая Семеновича Лескова, к книгам которого пристрастился в госпитале. К счастью и радости Додсона, Лесков написал много томов, и при неспешном, со смакованием каждого слова и предложения, степенном впитывании текста, собрания сочинений хватало на несколько лет. Добравшись до последнего тома, Макс Михайлович открывал первый и начинал с самого начала.
Читателем он был благодарным: не раз и не два посреди рассказа откладывал он книгу в сторону и, смахивая слезы, шел к рукомойнику умываться. Особенно любил он «Тупейного художника» и мог читать его несколько раз подряд.
Неоднократно пробовал Макс Михайлович книги и других авторов, но после десятка страниц откладывал со вздохом огорчения.
– Хорошо, – говорил он, – кто ж спорит, хорошо написано, да только куда им с Николай Семенычем тягаться.
Война выжгла, притупила сердце Макса Михайловича. За несколько фронтовых лет он успел утолить до предела жажду нового, присущую молодым людям его возраста, а виденных смертей и страданий хватило бы на добрую сотню безвоенных судеб. Подобно тому, как зажили раны на теле Макса Михайловича, затянулись и ожоги его сердца. Шрамы, пометившие спину и ноги, не мешали, только кожа на них навсегда осталась менее чувствительной, но душа, душа под розовыми пятнами новой плоти скукожилась, утратив прежний размах и полет. Макс Михайлович не замечал наступившей перемены. Ему казалось, будто он остался таким же, как до войны, лишь опыт прибавился, а с ним и понимание жизни. На самом же деле он закрылся, точно цветок на закате, укрыв чувства под оболочкой снисходительного безразличия. Теперь ему хотелось только покоя. Извечный кругооборот жизни, неизменное чередование будней и праздников, лета и зимы, подрастающий сын, надежная любовь Полины – он опирался на них, словно древняя земля на китов, и не желал ничего другого.
Жили Додсоны в небольшом деревянном доме почти в центре города. Приехав в Курган, молодой специалист получил развалюху, с трудом перезимовал в ней первую зиму и уже весной перестроил, превратив в крепкий пятистенок, с чердаком и сараем. На крохотном участке земли за домом Полина выращивала картошку и огурцы.
От улицы двор отделялся забором из ровного штакетника, тяжелую калитку запирала железная щеколда. Каждое лето Миша красил забор. Поначалу его злила нелепая трата времени, а потом, прочитав Тома Сойера, принялся воображать себя американским мальчишкой. Сравнение с американцем скрашивало заурядную работу. Закончив последнюю штакетину, Миша мыл кисти и шел купаться на Миссисипи.
В углу двора стояла беленая мелом будка, «внешние удобства», как шутил Додсон-старший. Летом в ней невыносимо воняло, а зимой стоял лютый холод. Но Миша не обращал внимания ни на первое, ни на второе – это была привычная для него, родная обстановка и он жил в ней естественно и просто, не ощущая никаких затруднений.
О семье матери Миша знал куда больше, чем о семье отца, ведь почти вся она уцелела, пережив и смутное время репрессий, и войну, и послевоенные передряги.
Бабушку и дедушку Миша не застал, они умерли, когда ему было три года. Сначала ушел дед, удивительный, необычный тип еврейского зверолова, а вслед за ним, спустя несколько месяцев, и бабушка. Из трех дядьев старший потерялся во время гражданской войны, средний пропал без вести, оставшись в осажденном Севастополе, а младший, Ефрем, жил в Новосибирске, женившись на Оксане, спокойной, рассудительной женщине с округлым лицом, русыми, расчесанными на пробор волосами и глазами, похожими на осколочки голубого неба. Вся она была какая-то мягкая, вкрадчивая, ходила осторожно, неслышно передвигая полные ноги, и к дяде Ефрему относилась, будто к своей безраздельной собственности, командуя даже не голосом, а едва заметным наклоном головы или подъемом бровей. Однако дядю, похоже, вполне устраивало такое рабство; он подчинялся жене с радостью и даже рвением, высматривая, улавливая на ее лице команду, чтобы, разглядев, тут же броситься выполнить.