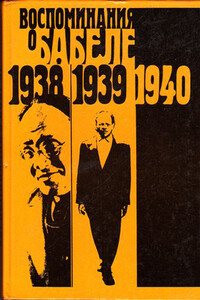Вот и тут, в Западном Берлине, наконец начался показ моей картины, а я, сидя в зале, чуть не умирал от стыда и ужаса. На экране была не та эталонная копия, которую мы с Калашниковым кропотливо и долго готовили в Москве, уточняя каждый оттенок зеленого, коричневого, голубого, а бросовая первая копия, присланная сюда нами когда*то для «технической разметки субтитров». О халатности и равнодушии совэкспортфильмовцев я слыхал и раньше, но такого и вообразить не мог.
Оказалось, для публики, увы, это было не так уж важно. До конца фильма в зале царила полная гробовая тишина, никто не улыбнулся, не вздохнул, не хихикнул, вообще ничем никак не проявил своего отношения. Провал, что ли? Вскоре выяснилось, что нет. Оказалось, такая манера немцев реагировать. Фильм закончился, зал зааплодировал. Вроде как*то все обошлось.
Затем мы поехали на виллу посла. По дороге он объяснил мне, что я должен вести себя, будто бы я хозяин виллы, будто бы я в ней живу и сам, а не посольство, устраиваю прием по случаю фестивального показа.
Напоминаю, был 1974 год. В отечестве зверствовали ОВИРы, травили Солженицына, на бульдозерах ездили по живописи — давили любое инакомыслие. А здесь шикарный западноберлинский бомонд катил в роскошных авто на «мой прием». И вскоре я, с дурацким видом, нелепо улыбаясь, уже пожимал каким*то людям руки, не в силах даже примерно понять, кто есть кто; потом все в неописуемых количествах поглощали черную икру и пили водку. Хотя посол велел мне пить только по глотку, но почти все подходили, все чокались, и где*то на сотом поздравлении уже с трудом соображалось, кто я такой и как здесь оказался.
На закрытии фестиваля меня посадили не вместе со всей делегацией, а где*то сбоку. Это внушало известные надежды, хотя умеренные. К досаде, я прожег сигаретой пиджак, других нарядов у меня не было, так что на торжественном акте я присутствовал с дырой на груди.
Награды, как и обычно, объявлялись от низшей к главной, и когда их уже было вручено с десяток, я понял, что мне ничего не светит — оставались только две главные премии. И тут объявили, что за лучшую режиссуру приз достается мне. Это был невиданный подарок. Я поднялся на сцену, Клаудия Кардинале вручила мне «Серебряного медведя», мы даже расцеловались, я потряс в воздухе статуэткой так, как видел это на фотографиях, потом опять все меня обнимали и целовали, потом уже был заключительный фестивальный банкет.
На следующий день берлинские газеты очень уважительно написали о картине, обо мне, о моем призе и даже о том, что у меня «лицо молодого боксера», но все же не удержались сообщить, что на заключительном банкете присутствовали Керк Дуглас с супругой, Ален Делон с супругой, Франсуа Трюффо с супругой, Жан-Люк Годар с супругой и Соловьев с Головней.
Обмытие призов происходило капитально: по пьянке я потерял сафьяновый футляр и вез через границу своего «Медведя» завернутым в грязные рубахи, не понимая, почему на проходе через контроль зверски начинает свистеть сирена. Пограничник предложил мне снять часы, вынуть ключи, собирался заглядывать и в рот и в задницу, пока я наконец не вспомнил про медведя в рубахе.
Медведем этим, что говорить, я, конечно же, обязан был Ермашу. Это он посмотрел «Сто дней», как*то по-своему что*то вычислил, оценил, настоял вот, чтобы картину послали на фестиваль, и результатам радовался даже больше меня самого, словно это он, а не я.
Как всегда на Руси, власти наши не знают удержу ни в хуле, ни в хвале. Ни в унижениях, которыми они то сознательно, то бессознательно подвергают «творцов», ни в милостях, которыми их же вдруг осыпают. После «Ста дней» и Берлина на меня покатился вал всех премий, какие только возможно было тогда получить. За «Красной гвоздикой», премией Московского комсомола, последовала премия Ленинского комсомола, затем — Государственная премия СССР. До Нобелевской дело не дошло, видимо, по чистой случайности, но если бы мне и ее тогда дали, я ни на секунду не усомнился бы, что так и надо. Я привык к похвалам и наградам, как*то освоился в новой жизненной полосе и жил с внутренним ощущением, что так оно все и есть и иначе быть не должно.

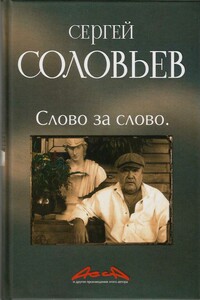


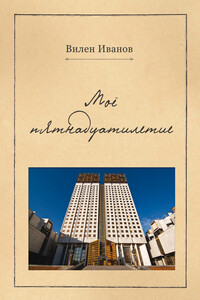

![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)