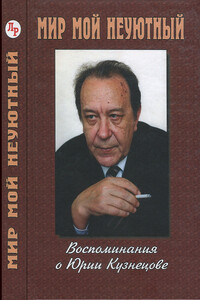Он страшно на меня ругался, и я был, конечно, в состоянии шока.
Отношения мои с начальниками застойных времен, надо сказать, строились довольно занимательно. Ко мне в основном они относились вообще*то с симпатией, вызванной, как я теперь понимаю, двумя странными факторами: первым, судя по всему, было мое славянское происхождение, вторым — то, что я был неблатным. Отступлений ни от первого, ни от второго, положа руку на сердце в массе своей начальники не любили. Тем более что какое*то время наш кинематограф казался им исключительно еврейским делом: Райзман, Хейфиц, Козинцев, Донской, Эрмлер, Зархи, Арнштам, Рошаль…
Так что тогдашним руководителям кинематографа было крайне приятно видеть в моем лице редкое исключение из неприятного правила. Я ощущал изначальную теплоту в их глазах: вот-де, совсем молодой, перспективный, курносый, и никто за него не просит, не звонит.
Правда, после просмотра любых трех кадров, взятых произвольно из моих лент, изначальная теплота как*то стремительно выветривалась.
Вот и Сизов крушил меня тогда беспощадно. Тем более страстно он посылал меня из нокдауна в нокдаун еще и потому, что новый кинематографический министр той поры Филипп Тимофеевич Ермаш уже успел прославиться тем, что в пух и прах разнес замечательную картину моей однокурсницы Динары Асановой по сценарию Юрия Клепикова «Не болит голова у дятла». Разнес он ее по тем же мотивам и почти теми же словами, что Сизов мою. Так что когда я появился со своими банками пленки в комитете, тамошние видавшие виды редактора поглядывали на меня с ужасом. Они понимали, что та, Динарина, картина плюс эта — два сапога пара.
Шли дни. Ермаш мою картину смотреть не торопился. Отдыхал после первого разноса, приглядывался к обстановке. Думаю, в те дни припомнился ему и простейший закон контраста.
Через неделю, явившись в кабинет Сизова, я увидел своего начальника с опрокинутым лицом.
— У тебя копия*то уже напечатана? — обескураженно спросил он меня.
— Напечатана, а что?
— Да понимаешь, министр хочет послать фильм в отборочную комиссию Западноберлинского кинофестиваля.
Был 1974 год. Западный Берлин до того времени оставался единственной столицей, решительно не пускавшей к себе на фестиваль никого из соцстран. Город как бы выполнял миссию форпоста свободного западного кино. Слова Сизова показались мне в высшей степени неправдоподобными. Я уже знал, что снял фильм про дебилов, но почему именно дебилы должны представительствовать от лагеря мира и социализма?
На следующий день меня вызвали в первый отдел, дали заполнить какую*то безумную анкету, велели сфотографироваться как в тюрьме — в фас, в профиль и еще раз в профиль — и все время говорили: «Срочно! Срочно! Нам дорога каждая минута!» Примерно через месяц я обнаружил себя в Западном Берлине, в роскошном отеле «Зоопаласт», к тому же в очень странной и практически невероятной компании замминистра кинематографии Владимира Николаевича Головни и члена жюри от СССР Ростислава Николаевича Юренева.
Естественно, был шок и от Западного Берлина, от того, что там все цвело, по городу трепетали разноцветные флаги, все — кроме красных, там и сям играли оркестры, к подъезду подкатывали свежевымытые авто, приглашая куда*то ехать. Все казалось наваждением: зачем тут я?
Тем не менее настал момент фестивального просмотра моей картины. К кинотеатру меня подвезли на «мерседесе», ввели внутрь по алой дорожке, проведя сквозь длинные шеренги фоторепортеров со вспышками. В зале посадили рядом с бургомистром Западного Берлина. С другой от меня стороны сидел советский посол.
За два часа до просмотра я в номере отеля сходил с ума от страха, что никто не придет. Но зал «Зоопаласта» был набит битком: дамы в бриллиантах, мужчины в смокингах.
С изумлением глядя на этот полный зал, я силился понять, что могло привести сюда всех этих людей. Ну ладно в нашем нищем отечестве, где зимой уже в четыре вечера темно, холодно и некуда деться, можно затащить каких-нибудь несчастных на фильм про пионерское детство. Но в этой цветущей стране, где всюду музыка, нарядные люди сидят в сотнях кафе, какой же дурак пойдет смотреть мою картину? Позднее, бывая на фестивалях, я все время задумывался все о том же: ради чего приходит хоть кто*то из них смотреть картину какого*то неведомого русского режиссера про совершенно непонятную для них жизнь? Кстати, таких «дураков» было очень и очень немало, особенно если вспоминать обо всех фестивалях и прочих советских показах в самых разнообразных странах мира.

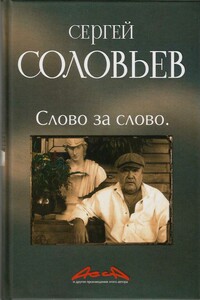
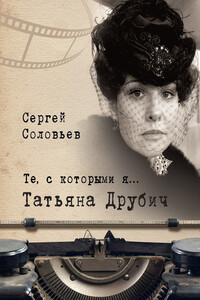


![Вводное слово : [О докторе филологических наук Михаиле Викторовиче Панове]](/build/no_cover.398201c8.jpg)