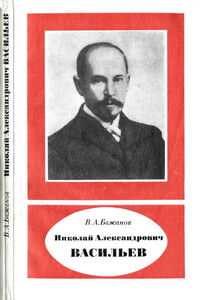С огромным запасом самых разнородных впечатлений, вынесенных от посещения «каторжного острова, с большим количеством документального материала, добытого на Сахалине, в середине октября 1890 года Чехов покинул остров и отправился в обратный путь. Обо всем, что он узнал на каторге и что он там видел, Чехов подробно рассказал потом в большой очерковой книге «Остров Сахалин» (1891 —1894), получившей в свое время широкое признание и высокую оценку демократической русской общественности и до сих пор не потерявшей для нас значительной научно-познавательной, воспитательной и художественной ценности. Сахалинские впечатления Чехова в той или иной мере отразились также в его рассказах «Бабы», «В ссылке», «Убийство», в очерке «Из Сибири» и отчасти в рассказе «Гусев», относящихся к первой половине девяностых годов.
Из поездки по Сибири и на Сахалин, которая была ярким и мужественным патриотическим подвигом писателя-гуманиста, Чехов вернулся сильно возмужавшим, нравственно окрепшим и
возбужденным. Он был окрылен новыми творческими замыслами, полон веры в жизнь, в силу и мощь народа. Теперешнее, как бы обновленное путешествием, душевное состояние писателя могло бы быть выражено словами его героя Лихарева из рассказа «На пути», который сказал о себе: «Когда, шатаясь по Руси, я понюхал русскую жизнь, я обратился в горячего поклонника этой жизни. Я любил русский народ до страдания, любил и веровал в его бога, в язык, творчество» (V, 271). Чем глубже было недовольство Чехова действиями и политикой правительства, тем решительнее его протест против равнодушия общества к судьбам страны и народа.
«Хорош божий свет, — писал Чехов в декабре 1890 года.— Одно только не хорошо: мы... Как дурно понимаем мы патриотизм!.. Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но
в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых» (XV, 131).
Вывод был ясным и простым: надо работать не покладая рук, работать на благо людей, действовать, бороться, протестовать.
Чехов отдался кипучей общественной деятельности. В голодные 1891 —1892 годы он, подобно Толстому и Короленко, энергично помогает крестьянам, пострадавшим от засухи и неурожая. На помощь голодающим он привлекает земских деятелей. Чехов совершает поездки в Нижегородскую и Воронежскую губернии для организации на местах помощи бедствующим. Чтобы от бескормицы не пали крестьянские лошади, по инициативе Чехова была организована их скупка и бесплатное кормление, а весною лошади возвращались хозяевам.
Поселившись весною 1892 года в деревне Мелихово, Че-
хов-врач охотно оказывает медицинскую помощь крестьянам, лечит их бесплатно, посещает крестьянские избы. В связи с эпидемией холеры, явившейся следствием страшного голода, Чехов в 1892 году был назначен санитарным врачом — «холерным доктором». Под его врачебным наблюдением в ту пору находились крестьяне 25 деревень, рабочие четырех фабрик и обитатели соседнего монастыря. Благодаря его неутомимой энергии и чуткой отзывчивости были спасены жизни сотен людей. А когда опасность холерной эпидемии миновала, Чехов, больно переживавший всеобщую неграмотность крестьян и обеспокоенный будущностью крестьянских детей, начал хлопоты по строительству народных школ. На собственные средства он построил школы в Мелихове и в двух ближайших деревнях — Талеже и Новоселках. Известно также, что Чехов непрестанно оказывал значительную материальную помощь сахалинским школам.
Простой народ любил доктора Чехова, почти боготворил его, видел в нем своего отзывчивого друга и заступника от обидчиков. В письме от 15 мая 1892 года Чехов, в свою очередь, тепло отзывается о мужиках: «Кланяются мне почтительно, как немцы пастору, а я с ними ласков — и все идет хорошо» (XV, 381). С сердечной теплотой он отзывается о крестьянах Поволжья, как совсем недавно он отзывался о сибиряках: «А какой прекрасный народ в Нижегородской губернии. Мужики ядреные, коренники, молодец в молодца — с каждого можно купца Калашникова писать. И умный народ» (XV, 308).