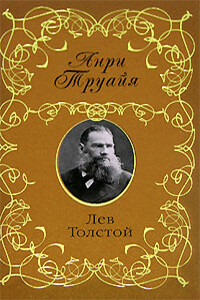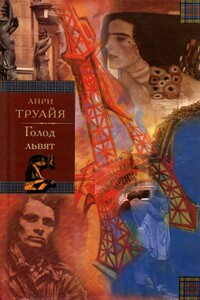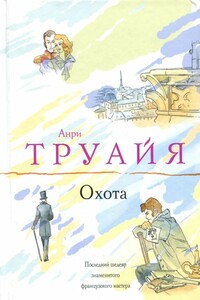Антон Чехов - страница 99
И тем не менее, сколько бы Антон Павлович ни говорил о стремлении сбежать в солнечные края, он чувствовал, что сыновний долг крепко привязывает его к семейному очагу. При том, что у него ничего общего не было с родителями, чей ум был ограниченным, а привычки косными, он не мог порвать связи с ними. Александр, проведя несколько дней в Мелихове, в последовавшем за тем письме принялся уговаривать брата уехать. Брось ты все, писал он, забудь свои мечты о жизни в деревне, свою любовь к Мелихову, все чувства и все труды, которые ты в него вложил; Мелихово – не единственное достойное место не земле, какой смысл позволять А ла тремонтану[321] грызть твою душу, как крысы грызут сальную свечку?
Но, несмотря на эти увещевания, Антон Павлович оставался в Мелихове, со своими. Впрочем, с возвращением погожих дней прояснилось и у него на душе. Он сажал деревья и розы, он снова взялся за рукопись «Острова Сахалина», над которой трудился третий год. Даже возникшая угроза повторения эпидемии холеры не обескуражила его. Как и в прошлом году, он в стремлении помочь мужикам безжалостно растрачивал себя, не обращая внимания на то, что силы на исходе. Вернувшись из какой-нибудь далекой деревни, нередко заставал у себя во дворе крестьянку, которая дожидалась доктора, чтобы отвезти его к больному в другую дальнюю деревню. И покорно ехал, позволяя медицине отнимать время у литературной работы, которой приходилось заниматься лишь урывками. Ругался, проклинал все это, но отказаться не мог. К счастью, и на этот раз эпидемия пощадила его больных, никаких жертв среди населения чеховского участка не было.
Летом опять нахлынула толпа гостей. Прогулки, флирт, всякие игры снова царствовали в Мелихове. От Чехова теперь ни на шаг не отходили собаки, подаренные другу-писателю Лейкиным. Вот как он рассказывал о них Суворину: «У меня новость: две таксы – Бром и Хина, безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный».[322] Как обычно, вечера проходили для матери семейства в тревоге, потому что Евгении Яковлевне казалось, будто гости не отдают должного ее стряпне, Павел Егорович продолжал цедить сквозь бороду евангельские истины, а сам Чехов, то раздражаясь, то забавляясь, пытался поддерживать беседу. После ужина все отправлялись в гостиную, где курили, болтали и слушали музыку. Лика пела, аккомпанируя себе на фортепиано, а чрезвычайно привлекательный мужчина – новый знакомый Чеховых, Игнатий Потапенко, – играл на скрипке или подхватывал сочным баритоном романсы Чайковского и Глинки.
Среди всего этого многолюдства Чехов был любезен с каждым, но ни с кем не сближался, не откровенничал. Какая-то часть его постоянно оставалась закрытой для общества. Наблюдая за его поведением и обнаруживая в нем одновременно услужливость и отрешенность, Потапенко задумывался: а возможно ли стать близким другом такого человека? Наверное, даже в те моменты, когда Антон Павлович выглядел страшно заинтересованным тем, что говорят вокруг него, мысленно он оставался за письменным столом и думал только о лежавшей там рукописи. Внезапно взор его затуманивался, он быстро удалялся и записывал какую-то фразу, только что пришедшую на ум. Потом, вернувшись к друзьям, извинялся, шутливо добавляя, что вот, мол, только что «заработал шестьдесят копеек». Или, прервав общую беседу, скажем, о марксизме, задумчиво спрашивал: «А вы уже побывали на конезаводе?», правда, тут же, слегка покраснев, переводил разговор на брошенную тему. Короче говоря, он очень мало говорил о своем и о себе и очень старался не выдвигаться на первый план. Создавалось впечатление, будто он, облокотившись на балюстраду, наблюдает за течением жизни. При любых обстоятельствах Антон Павлович предпочитал быть зрителем, а не актером, не действующим лицом.