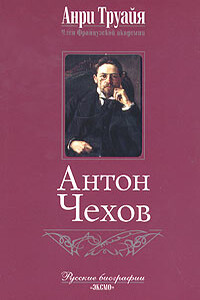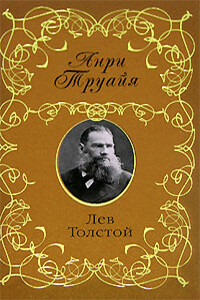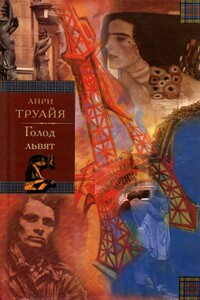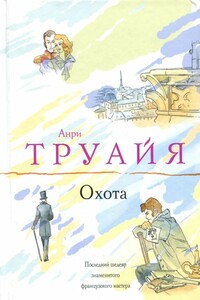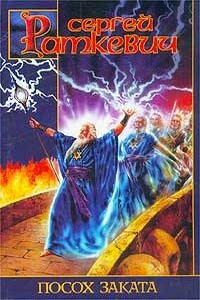Ученик первого класса Таганрогской гимназии[1] Антон Чехов, которому едва минуло девять лет, силился сосредоточить внимание на лежавшей перед ним раскрытой латинской грамматике. Но его ум поминутно отвлекался от освещенной свечой страницы, уносясь в «большую комнату», где отец, грозный Павел Егорович, должно быть, по обыкновению своему, читал молитвы. В этой комнате – святая святых дома, с молитвенником, всегда лежащим на конторке, целая стена была увешана иконами, перед которыми день и ночь не угасали цветные стеклянные лампадки. Как ни удивительно, но крайняя набожность богомольного Павла Егоровича лишь усиливала его склонность к домашней тирании. Убежденный в том, что всегда действует по воле Господа, с которым поддерживал особые отношения, он навязывал семье железную дисциплину. Его жена, ласковая и бесцветная Евгения Яковлевна, сыновья Александр, Николай, Антон, Иван и Михаил, дочь Мария[2] трепетали, едва он повышал голос в их присутствии. Стоило ему появиться – каждый чувствовал себя грешником. При малейшем проступке он раздувался от ярости, сыпал проклятиями, размахивал руками, кипятился и лупил виновного. Он не скупился на пощечины, а в серьезных случаях снимал со стены плетку и засучивал рукава. Позже Чехов напишет, что отец начал его воспитывать, или попросту бить, когда ему не исполнилось еще и пяти лет. Первой мыслью мальчика при пробуждении было: «Выпорют ли меня сегодня?» Школьного товарища, который сказал, что дома его никогда не секут, маленький Антон назвал обманщиком. После наказания «провинившийся» ребенок, с горящим от побоев задом, должен был, по обычаю, поцеловать сурово покаравшую его отцовскую руку. Что это – деспотизм? Неумеренная жестокость? На самом деле Павел Егорович наказывал свое потомство без злобы и почти без гнева. Он на свой лад даже и любил детей, но считал, что, обращаясь с ними сурово, старается ради их же блага. Придерживаясь твердых убеждений, он не отделял наставлений от побоев и считал, что без криков и битья невозможно внушить священные истины пустоголовым мальчишкам. «Меня самого так воспитывали, – говорил он жене, оправдывая свою жестокость. – И, как видишь, получилось неплохо!» Позже Чехов меланхолически заметит, что его деда лупили господа и самый мелкий чиновник мог набить ему морду. Его отца бил дед, а его самого и братьев – отец. «Что за нервы, что за кровь мы унаследовали?» – спросит он. И признается: «В детстве у меня не было детства».
Иногда мать пробовала вмешаться, старалась смягчить суровость мужа. Но где уж ей, бесхарактерной и измученной шестью детьми, которых вынашивала и рожала почти без перерыва, было обуздать этого проникнутого чувством собственной значимости pater familias![3] Ее саму по любому поводу грубо одергивали, словно простую служанку. «Я прошу тебя вспомнить, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери, – спустя много лет напишет Чехов старшему брату Александру. – Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. […] Лучше быть жертвой, чем палачом».[4]
Думая о матери, Антон всегда видел ее хлопочущей у плиты или согнувшейся над швейной машинкой. Ведь надо было накормить и одеть шестерых детей. Евгения Яковлевна огорчалась из-за того, что они слишком быстро росли и снашивали вещи. Ее голова была постоянно занята мыслями об одежде. То пальто надо надставить, то штаны починить. И все стоит денег… Она бесконечно складывала в уме копейки, страшась, что муж попрекнет ее неумением вести хозяйство.
Маленький Антон тоже с утра до вечера жил, со страхом ожидая выговора. Уткнувшись в латинскую грамматику, он молился о том, чтобы день прошел без грозы. Но за дверью уже слышался шум приближавшихся шагов. Входил отец, грузный, широкоплечий, с темной бородой, кустистыми бровями, властным взглядом. Он был одет в шубу, обут в высокие кожаные калоши.
«– Тово… – говорит Павел Егорович. – Я сейчас уйду по делу, а ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько.