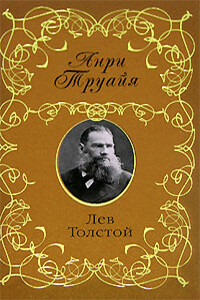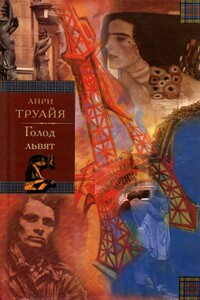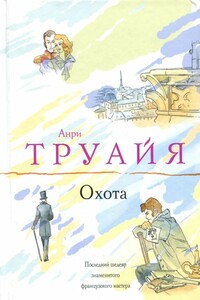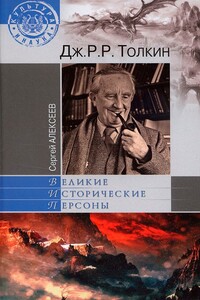Антон Чехов - страница 181
Толстому случалось поддразнивать гостя, который казался ему чересчур стыдливым. Как-то он спросил ни с того ни с сего: «Вы сильно развратничали в молодости?» А когда растерянный Чехов, теребя бородку, пробормотал в ответ нечто нечленораздельное, престарелый мэтр гордо объявил, что сам в былые годы был неутомимым бабником. И стал описывать подробности, пользуясь непечатными выражениями. Смущенный Чехов не понимал, как себя вести. Горький, наблюдавший за обоими, с горячностью отмечал этот контраст между ними, грубость, замешанную на бахвальстве, одного и болезненную застенчивость другого. Но он писал, что Толстой любил Чехова, что всегда, когда Лев Николаевич видел Антона Павловича, в глазах старика появлялась нежность, словно он ласкает взглядом лицо гостя. Ему, человеку кипучему и одержимому гордыней, отмечал Горький, казалось, будто Чехов напоминает скромную и безмятежную барышню (известно брошенное Толстым вслед Антону Павловичу, который шел по дорожке парка с Александрой Львовной, дочерью яснополянского мудреца: «Ах, какой милый прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чудесный!»).[638] А однажды осенью, после подобной же встречи втроем, Толстой запишет в дневнике: «Рад, что и Горький и Чехов мне приятны, особенно первый».[639]
Горький, арестованный за революционную деятельность, был потом отпущен на свободу, но ему было запрещено пребывание в Санкт-Петербурге и Москве. В связи с болезнью он получил разрешение жить в Крыму, но только не в Ялте. Тем не менее в течение недели он гостил у Чехова. Все это время становой то дежурил у ворот дома, то звонил по телефону, когда же Горький покинул Аутку, очередной раз позвонив, стал узнавать, куда отправился подозреваемый. А тот снял дачу в Олеизе, неподалеку от Гаспры, и поселился там с женой и детьми. С Чеховым они по-прежнему встречались часто, и дружба их все росла с каждой встречей. «А.М. здесь, здоров. Ночует у меня и у меня прописан. Сегодня был становой, – писал Антон Павлович жене. – …А.М. не изменился, все такой же порядочный, и интеллигентный, и добрый. Одно только в нем или, вернее, на нем нескладно – это его рубаха. Не могу к ней привыкнуть, как к камергерскому мундиру».[640] Что же до Горького, то он неустанно восхвалял знаменитого писателя, который презирал фимиам и при любых обстоятельствах оставался на равных с собеседником. «Мне кажется, – писал Горький, – что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для „пущей важности“, вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, как он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А.П. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни – ожидали от Антона, другие, более грубые, – требовали. Он не любил разговоров на „высокие“ темы – разговоров, которыми милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.
Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей».[641]
Горького особенно трогали скромность и любезность его великого собрата по перу, потому что он знал: Чехов обречен, жить ему остается недолго. С улыбкой стоика Антон Павлович продолжал принимать докучливых посетителей, сажать деревья, писать, лелеять планы путешествий – так, будто он надеялся в ближайшее же время выздороветь. Точно так же он никогда не жаловался на свою странную женитьбу на вечно отсутствующей актрисе. Замкнувшись в своей зябкой сдержанности, он внимательно выслушивал исповеди, но не исповедовался сам. А если когда-то и касался в беседах с Горьким политических вопросов, то всегда старался отстоять более светлую модель будущего. Убежденный марксист Горький мечтал о мировой революции, которая сметет с лица земли буржуазию и отдаст всю власть пролетариату. Человек нюансов, Чехов, наоборот, видел спасение своей страны в медленном преображении царского режима в просвещенный либерализм. Впрочем, он не был слишком высокого мнения о своих соотечественниках. Иногда задумывался даже о том, способны ли они вообще осознать величие родины. «Странное существо – русский человек! – сказал он однажды. – В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме „Новостей терапии“, не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни – простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони – об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них – собачья: бьют их – они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают – они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками».