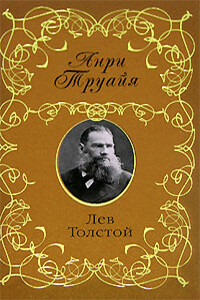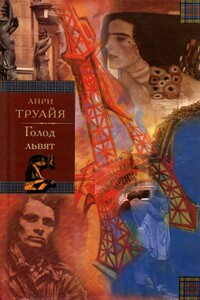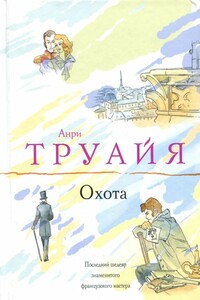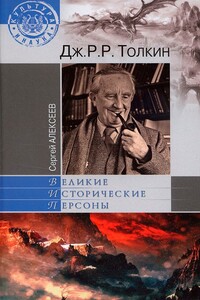Из письма в письмо повторяется один и тот же вопрос: «Когда мы снова будем вместе?» Оба они так много думали об этом, что Ольгу стала мучить совесть. Когда она была любовницей Чехова, то не чувствовала морального обязательства проводить с ним дни и ночи. Но, став законной женой, она ведь обязана была, как ей казалось, посвятить всю себя счастью этого исключительного существа. Вероятно, и кое-какие речи окружающих, особенно – Марии, заставляли Ольгу считать себя виновной в том, что она не бросала сцену. Но ее желание играть, появляться в свете, нравиться было таким живым и сильным, что она не могла отказаться от всего этого и похоронить себя заживо в Ялте. Что делать? Пожертвовать ради театра мужем или театром ради мужа? Как всегда тактичный, Чехов не требовал от нее высказываться по этому поводу. Но он ведь был так одинок, так болен! «Мы так грешим, что не живем вместе! Ну да что об этом толковать!»[620] – писал он. И 6 ноября, доведенная до крайности, она признается ему в мыслях, которые не дают ей покоя: «Антонка, родной мой, сейчас стояла перед твоим портретом и вглядывалась, села писать и заревела. Хочется быть около тебя, ругаю себя, что не бросила сцену. Я сама не понимаю, что во мне происходит, и меня это злит. Неясна я себе. Мне больно думать, что ты там один, тоскуешь, скучаешь, а я здесь занята каким-то эфемерным делом, вместо того, чтобы отдаться с головой чувству. Что мне мешает?! <…> Во мне идет сумятица, борьба. Мне хочется выйти из всего этого человеком.
Мне кажется, я пишу так бессвязно, что ты и не поймешь. Но постарайся. Читай не только слова.
Как я вытяну эту зиму! Антонка, ты мне почаще пиши, что ты меня любишь, мне хорошо от этого. Я могу жить, только когда меня любят. Я пришла к этому убеждению.
Какой я слабый человек! Эх, Антон, Антон! Как много жизнь дает, и как мы мимо всего проходим! Самое для меня ужасное, когда я прихожу к убеждению, что я – полное ничтожество как человек. Это ужасно. Мне хочется прижаться к тебе, чтобы мне было тепло, любовно. Я бы поплакала по-хорошему у тебя на груди, такими хорошими слезами. Милый мой, я тебя люблю и буду любить. Я тебе не могу всего высказать, что у меня на душе.
Спи спокойно, дорогой мой. Не казни меня, что мы в разлуке – по моей вине».[621] Она явно просила его принять за нее решение, которое, как бы там ни было, раздирало ей душу. Но он слишком уважал независимость других людей, чтобы посоветовать жене променять блестящую жизнь в Москве на блаженное прозябание в Ялте. Поначалу он просто говорил ей, чтобы она как следует взвесила все «за» и «против». «Ты хочешь бросить театр? – писал Чехов. – Так мне показалось, когда я читал твое письмо. Хочешь? Ты хорошенько подумай, дусик, хорошенько, а потом решай что-нибудь. Будущую зиму я всю проживу в Москве – имей сие в виду».[622] А спустя четыре дня уточнял эту мысль – властно и самоотверженно: «Здравствуй, собака! Сегодня прочел твое слезливое письмо, в котором ты себя величаешь полным ничтожеством, и вот что я тебе скажу. Эта зима пройдет скоро, в Москву я приеду рано весной, если не раньше, затем всю весну и все лето мы вместе, затем зиму будущую я постараюсь прожить в Москве. Для той скуки, которая в Ялте, покидать сцену нет смысла».[623] Этот ответ вполне соответствовал новому состоянию духа Ольги. Помаявшись какое-то время из-за своих благородных чувств, она решила взглянуть на будущее более эгоистично. «Ты скоро мне будешь писать, верно, открытки, а потом просто присылать два слова: „Я живу“ или что-нибудь вроде этого, – писала Ольга мужу 4 декабря. – Лучше выругай меня, скажи, что ты недоволен жизнью, что я должна жить с тобой, вместе, а то на кой тебе такая нелепая жена. Я соглашусь. Конечно, я поступила легкомысленно. Я все надеялась, что твое здоровье позволит тебе провести хоть часть зимы в Москве. Да не выходит, Антончик мой! Скажи мне, что я должна делать. Без дела совсем я надоем тебе. Буду шататься из угла в угол и придираться ко всему. Я уже совсем отвыкла от праздной жизни и не так уже молода, чтобы в одну секунду сломать то, что мне досталось так трудно. Я чувствую массу укоризненных глаз на себе: отчего я не бросаю сцену, как я допускаю, что там один тоскуешь, etc… Все, все я знаю, милый мой, и оттого много молчу, и перед тобой в особенности. Не знаю, чего я и сейчас-то расписалась. Не сердись на меня и не волнуйся. В театре отрадного мало. Репертуар сужается адски: готовим всего 3-ю пьесу, и та неизвестно когда пойдет. Нескладно все».