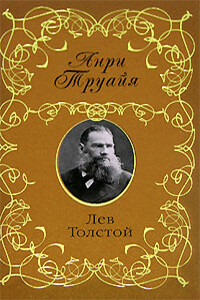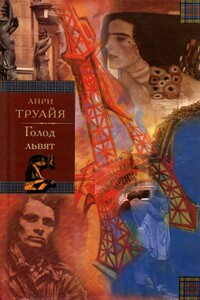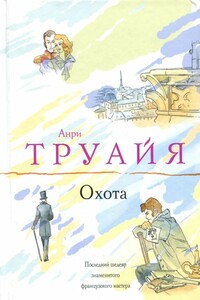В вечер премьеры за перипетиями спектакля взволнованно следила еще одна женщина: Лидия Авилова. Она не забыла обещания Чехова, сделанного девять месяцев назад: он намекнул тогда, что на представлении она поймет, узнал ли он незнакомку на маскараде. Но реплики сменяли одна другую, не давая ни малейшего ответа на тревоживший ее вопрос. Наконец, в третьем акте она увидела, как Нина протягивает Тригорину медальон, на котором велела выгравировать инициалы писателя, название одной из его книг и слова: «страница 121, строчки 11 и 12». Но ведь это не та страница и не те строки, которые приказала выгравировать на подаренном Чехову брелоке сама Авилова! Заинтригованная донельзя, она больше не слушала актеров и думала только о своем. Вернувшись домой, она, пылая нетерпением, едва дождалась, пока муж уснет, и кинулась искать нужную цитату в произведениях Чехова. Обозначенные строчки ни в одном из сборников не говорили ни о чем! Разочарованная, Лидия улеглась в постель, но заснуть не смогла. И вдруг ее озарило: а если он взял цитату из ее собственного сборника рассказов, который был ему послан?! Отбросив одеяло, помчалась в библиотеку, открыла книжку на 121-й странице, нервно отсчитала 11-ю строку. И прочитала: «Молодым девицам бывать в маскарадах не полагается».
«Вот это был ответ! – пишет в мемуарах Авилова. – Ответ на многое: на то, кто прислал брелок, кто была маска. Все он угадал, все он знал».[389] Однако ясно, что для Чехова эти слова означали конец, категорический отказ от нее в насмешливой форме. Верный своей привычке, он старался свести отношения с влюбленными в него женщинами к шутке. И придавал так мало значения этому брелоку, что спустя некоторое время передарил его Вере Комиссаржевской, бесподобной исполнительнице «Чайки». И артистка тут же призадумалась, а не воспылал ли драматург к ней страстью. Но он и Лике предложил подарить медальон в этом же роде, и тоже с гравировкой: «Список пьес членов Общества русских драматургов, 1890, страница 73, строка 1», а когда она раскрыла каталог на указанной странице, то обнаружила там название фарса «Безумный Игнаша,[390] или Нежданное безумие» – прямой намек на Игнатия Потапенко.
В конце концов можно сказать, что и Лика, и Лидия Авилова, и Вера Комиссаржевская – все они хотели видеть в Чехове страстного мужчину, тогда как сам он довольствовался тем, что попросту наслаждался их обществом, желая лишь, чтобы были красивыми, веселыми и милыми, но не испытывая по отношению к ним ничего, кроме нежности и уважения.
Провал «Чайки» подкосил автора морально и физически. Шли дни, а у него все стоял перед глазами этот зрительный зал, отвечавший свистом, смехом и шиканьем на творение, в которое он вложил столько собственной души, себя самого. Суворин выругал его в письме после премьеры за то, что он так распустился, и Антон Павлович ответил ему гневной филиппикой: «В Вашем последнем письме (от 18 окт.) Вы трижды обзываете меня бабой и говорите, что я струсил. Зачем такая дифамация? После спектакля я ужинал у Романова, честь честью, потом лег спать, спал крепко и на другой день уехал домой, не издав ни одного жалобного звука. Если бы я струсил, то я бегал бы по редакциям, актерам, нервно умолял бы о снисхождении, нервно вносил бы бесполезные поправки и жил бы в Петербурге недели две-три, ходя на свою „Чайку“, волнуясь, обливаясь холодным потом, жалуясь… Когда Вы были у меня ночью после спектакля, то ведь Вы же сами сказали, что для меня лучше всего уехать; и на другой день утром я получил от Вас письмо, в котором Вы прощались со мной. Где же трусость? Я поступил так же разумно и холодно, как человек, который сделал предложение, получил отказ и которому ничего больше не остается, как уехать. Да, самолюбие мое было уязвлено, но ведь это не с неба свалилось; я ожидал неуспеха и уже был подготовлен к нему, о чем и предупреждал Вас с полной искренностью.
Дома у себя я принял касторки, умылся холодной водой – и теперь хоть новую пьесу пиши. Уже не чувствую утомления и раздражения и не боюсь, что ко мне приедут… говорить о пьесе. С Вашими поправками я согласен – и благодарю 1000 раз. Только, пожалуйста, не жалейте, что Вы не были на репетиции. Ведь была в сущности только одна репетиция, на которой ничего нельзя было понять; сквозь отвратительную игру совсем не видно было пьесы».