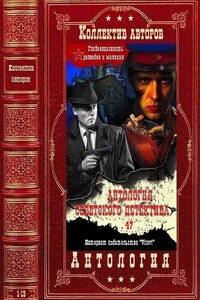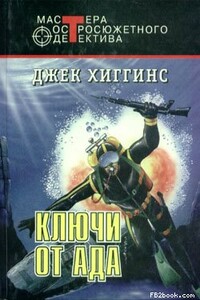Я не замечаю, как произношу это вслух. Галка смеется:
— Почему не сказать — в Заднестровье?
— Потому что королю Михаю больше нравилась Транснистрия.
— И король Михай уже забыт. Стоит ли вспоминать?
— Иногда стоит.
Порыв ветра распахивает балконную дверь. Звон стекла возвращает меня в наши дни. Я выхожу на балкон и вижу зеленый откос берега, черные холмы угольной гавани и стрелы портальных кранов, похожих на марсианские боевые машины с рисунков Робида к уэллсовской «Борьбе миров».
— Иногда стоит, — повторяю я и выхожу на улицу.
Галка не ошиблась. Впечатления детства исказились и поблекли. Я не узнал ни двора, ни дома на бывшей Канатной. Все сплющилось до игрушечной уменьшенности. Даже хлам на дворе был не тот, не той давности. А на чердак, где мы давали партизанскую клятву, я не полез. Может быть, там сейчас, как и прежде, развешивают белье, — еще за вора примут.
Я прохожу по улице Бебеля до пересечения ее с улицей Ленина и сворачиваю вниз, к Оперному театру. Маршрут мой тот же, что и в сентябре сорок третьего года. Память, как кинооператор, творит чудо. Одессу моего детства наплывом сменяет Одесса времен короля Михая, тускло просвечивающая сквозь нынешний, неузнаваемо помолодевший город. Он приобрел как бы прозрачность, возможную только в кино. Из-за ярко-зеленой ленточки аккуратно подстриженного газона память высвечивает выщербленный асфальт, разбитый подковами немецких солдатских сапог. Узорчатую игру шелка в витрине магазина тканей призрачно заслоняют пивные бочки румынской «бодеги». Веселые окна булочной вдруг закрываются грязным ковром универсальной комиссионки. Хороших ковров тогда в магазинах не было — их отобрали и вывезли специальные команды для переброски всего ценного в королевскую Румынию и германский рейх. Нам в это время уже было поручено всячески препятствовать вывозу художественных ценностей из Одессы, и партию ковров, в частности, удалось спасти: их перегрузила в другой вагон бригада Свентицкого, а железнодорожники укрыли его в одном из тупичков Одессы-Товарной.
На углу улицы Ленина я уже не вижу нынешнего нарядного города — обратный ход времени безотказно сработал, воскресив в памяти и пустынность тогдашней Ришельевской, и притаившуюся за окнами непокоренную тишину. Она вдруг раскололась где-то впереди грохотом взрыва, взвизгнула короткой очередью автоматов. Но я даже не вслушивался: кто обращал внимание на уличную музыку того времени? К тому же я спешил, не задумываясь над тем, что навстречу мне также торопились редкие прохожие с серыми от испуга лицами: мало ли чего пугались тогда в Одессе. А у меня было неотложное дело: всего полквартала впереди за углом меня ждал серый обшарпанный домик, на двери которого была прибита фанерная доска-вывеска. Хозяин, обмакнув палец в чернила, витиевато вывел на ней: «Чоловичий кравец» и ниже по-русски: «Пошив, лицовка, штуковка, глажка». На крайнем правом окне первого этажа, куда легко заглянуть с улицы, должен был стоять фикус, что означало: входи смело, коли нет хвоста. А если фикуса не было — проходи мимо, не задерживаясь и не озираясь.
Метрах в пятидесяти от памятного мне домика я останавливаюсь, как и тогда. Ведь наверняка знаю, что и дом не тот, и фикуса нет, и все же замираю на месте. Повторяю: как и тогда. Но в тот день меня остановила Галка, выскочившая из соседних ворот, простоволосая, без косынки, которую судорожно комкала в руках.
— Повернись сейчас же и ступай не спеша, — скомандовала она свистящим шепотом. — Ничего не спрашивай. Как будто что-то забыл.
Я повиновался, не глядя на Галку, хотя видел краем глаза, как она идет рядом.
— В чем дело? — спросил я сквозь зубы, когда дошли до угла.
— Явка провалена. За дверью охранники с автоматами.
— А фикус?
— Какой еще фикус! Там весь угол разворочен гранатой.
Я должен был встретиться с Галкой у дяди Васи, но опаздывал, что меня и спасло. А Галка?
— Не дошла. Как увидела взрыв — весь угол разнесло, — хлоп на землю тут же, в воротах, и затаилась… А полицаи с улицы полоснули по окнам из автоматов — и за дверь! До сих пор не выходят. Ждут.