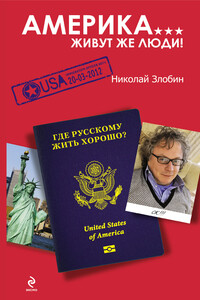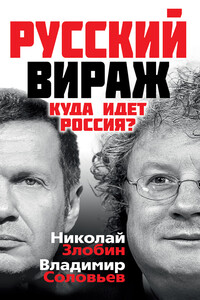Несколько лет назад в рамках одного университетского курса, посвященного глобальной политике и безопасности, я поднял тему взаимного непонимания и различного смысла одних и тех же понятий в России и США. В группе были и американцы, и студенты, родившиеся и выросшие в России. Мы, в частности, беседовали о дружбе и сошлись на том, что действуем в рамках дружеских отношений по-разному. Например, американцы говорили, что будут помогать другу готовиться к экзамену, а россияне — что при необходимости будут искать возможность потихоньку передать другу правильные ответы на экзамене. Американский друг предложит тебе стакан воды, когда ты придешь к нему домой. Российский — приготовит чай и поставит на стол печенье и бутерброды. Или, скажем, если ты заболеешь, то американец принесет тебе из магазина банку с куриным супом, а российский приятель не задумываясь притащит все, что найдет у себя в холодильнике, да еще попросит свою бабушку приготовить огромную кастрюлю борща, половину которого он заставит тебя съесть с чесноком и рюмкой водки. Помню, немало споров в аудитории вызвал следующий пример: американский друг спокойно воспримет откровение о том, что ты гей, и будет его молча «переваривать», а российский друг будет долго убеждать тебя, что ты не гей, просто еще не встретил «свою девушку», и даже попытается найти для тебя подходящую кандидатуру на эту роль.
И так далее. Понятно, что все это в немалой степени стереотипы, однако особенность стереотипов, как известно, именно в том, что они не полностью являются фантазией: в их основе всегда лежит частичка правды. Кстати, в другом своем курсе, посвященном глобальной журналистике, я учил студентов не только узнавать, разоблачать стереотипы, но и создавать их. На мой взгляд, для журналистов важным умением является и то и другое.
К американцу, как я уже говорил, нельзя заявиться с бутылкой водки в середине ночи, зато можно приехать и пожить три месяца — тебя не выгонят. Тебе надо где-то пожить, дружище? Живи, ради бога. При этом никто не будет лезть тебе в душу и расспрашивать, почему ты не хочешь или не можешь жить у себя дома, что случилось и т. д. Тебе предоставят отдельную комнату и пригласят пользоваться всем, что есть в доме: кухней, верандой, спортзалом, телевизорами и музыкальными центрами. Если нет отдельной комнаты — предложат жить в проходной или где-нибудь под лестницей, оборудуют спальное место в подвале или на чердаке. Если и такой возможности нет — положат на диване прямо в гостиной или столовой. А если и это невозможно, потому что у хозяина маленькая квартирка, — без раздумий бросят матрац на пол рядом с собой. Так или иначе, но найдут тебе место под крышей и посадят за общий стол. А не хочешь — питайся отдельно сам, никто слова не скажет. Я и сам так жил у друзей несколько раз в первые годы своего пребывания в Америке.
Кстати, это правило американского гостеприимства распространяется не только на друзей или родственников. Американцы легко дают кров просто знакомым и коллегам, малознакомым людям, а то и совсем незнакомым — например, по просьбе друзей или соседей. Я не раз попадал и в такие ситуации. Однажды много лет назад я переехал в Вашингтон работать в местном университете. Выяснилось, что дом, который предполагалось снять для меня, еще не готов, там идет ремонт. Малознакомый мне университетский профессор в своей воскресной церковной группе бросил клич: не хочет ли кто-нибудь просто приютить молодого (тогда) московского политолога и историка, который очень плохо (тогда) говорил по-английски. Сразу нашлось немало желающих — и я поселился в престижном районе американской столицы Дюпон-серкл в семье коренных вашингтонцев. Такая семья, кстати, сама по себе была большой редкостью. Хозяева жили на третьем этаже, а мне отдали второй этаж. Первый этаж был общим — гостиная, кухня, столовая, библиотека и т. д. Это был дом, который теперь не часто увидишь в Америке: без спортзала и домашнего кинотеатра, но с комнатой-библиотекой, где полки книг уходили под потолок.
Рекомендация пожилого университетского профессора положила начало одной из самых долгих, надежных и интересных дружб, которые сложились у меня в США. Я прожил в этом доме почти год, но даже когда наконец переехал в свое жилье по соседству, мы продолжали общаться регулярно, очень тесно и почти по-родственному. Представители высшей американской академической, военной и административной, а в общем и целом — интеллектуальной элиты, входившие в эту семью, оказались в чем-то похожи на своих советских и российских коллег. Разве что они были более привычны к свободе и комфорту, имели больше денег и, соответственно, возможностей писать книги, ездить по миру и растить больше детей. Которые впоследствии, конечно же, шли в хорошие университеты и укрепляли «мягкую силу» как отдельно взятой семьи, так и всего Вашингтона. Так, в семье моих хозяев детей было пятеро, хотя в доме с родителями уже никто не жил, да и в Вашингтоне проживал только один сын. Остальные разлетелись по всему миру, что весьма типично.